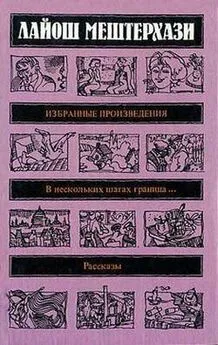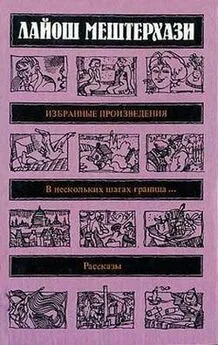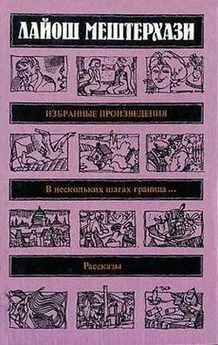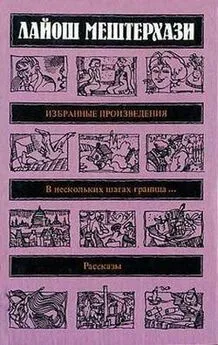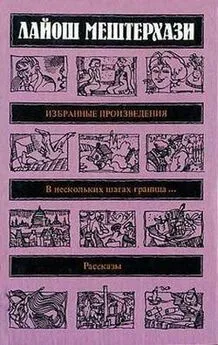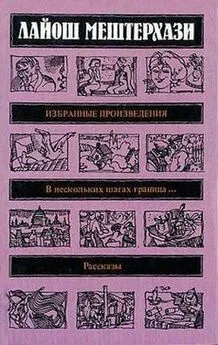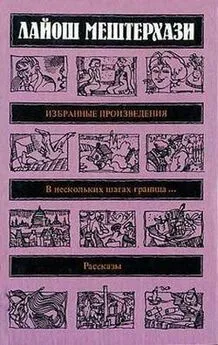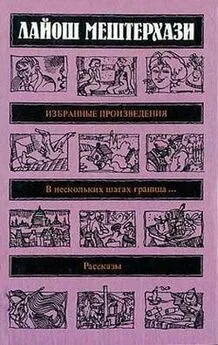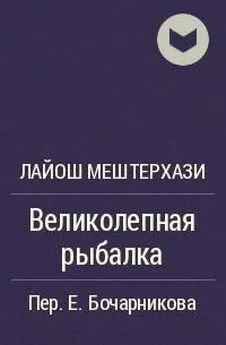Лайош Мештерхази - Загадка Прометея
- Название:Загадка Прометея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1977
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лайош Мештерхази - Загадка Прометея краткое содержание
Кто такой Прометей, знает каждый школьник. Герой из греческой мифологии, укравший для людей огонь с неба и в наказание по велению Зевса прикованный Гефестом к скале на Кавказе, куда ежедневно прилетал орел, дабы вновь и вновь раздирать не успевавшие затянуться раны героя и клевать ему печень. Так продолжалось очень долго, пока оказавшийся в тех краях Геракл не сразил орла, разбил оковы и освободил Прометея.
До сих пор все ясно. А вот дальше — загадка! Что произошло с Прометеем потом? Ведь что-то с ним происходило, это очевидно. Но как, почему мог потонуть в тумане, исчезнуть из памяти его образ и все, что случилось с ним в дальнейшем?! Мы знаем: Прометей был величайшим благодетелем человечества. Так почему же в античном мире не назвали по нему ни единой звезды (орел, что клевал ему печень, заслужил эту честь!), почему нет ни храма, ни хотя бы жертвенника или источника, рощи, посвященных его памяти?..
Давайте же попробуем исследовать историю Прометея! Буквально, слово за слово, без каких-либо аллегорий и сомнительных параллелей.
Загадка Прометея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Микенах объявили национальной классикой раздутую и все раздуваемую легенду об Ио: у Священной Коровы становилось все больше сыновей, дочерей и внуков, решительно все города подлунного мира были основаны, оказывается, роднею Пелопа. Об этом вопила нищая детвора у городских ворот, эта тема открывала двери Академии. Геракла бесит подобное тупоумие в культурной политике — ведь какая тенденциозная глупость, и, увы, не единственная! А он даже сказать ничего не может: ему смеются в глаза, он-то, мол, и сам потомок Ио!
Микены распространили «зону» своего политического влияния на весь окружающий островной мир — от Итаки через Крит до Родоса, Лесбоса, Лемноса. Но и это бы еще не беда — все это, по существу, греческие, или хотя бы по происхождению греческие, союзнические территории. Однако завладение портами Родоса, Лесбоса и Лемноса, вовлечение именно этих островов в перевозки форсируемого Атреем оснащения армии, присутствие возрожденного микенского флота, пусть даже чисто символическое, в непосредственной близости — взглянем на карту! — от малоазийских берегов представляет серьезную угрозу интересам пунийцев, хеттов и, косвенно, Египта, но прежде всего и самым непосредственным образом затрагивает интересы Трои. Если, конечно, одновременно не возобновлен и прежний договор о мореплавании.
Но мы знаем: этот договор не был возобновлен.
И наконец, самое тяжкое: мы знаем, что микенский флот, чуя за собой уже грозную и всевозрастающую мощь, пустился в наводящее ужас пиратство. Я не говорю, будто бы официально. Зачем же! На все существует форма!.. Если однажды, как-то, где-то, государственное руководство — преднамеренно ли, по недомыслию или вынужденно — оставляет для спонтанных движений возможность прорыва в системе исторических установлений, то прорыв происходит. Эти движения, разумеется, могут быть добрыми, их можно, познав определенные закономерности, направить на пользу обществу. Но они могут быть и дурными, вредными, самоубийственными. В случае с Атреем у нас имеются все основания полагать, что для «прорыва» пиратства, о размерах которого дают представление документы того времени, он оставил щель преднамеренно. То есть счел это спонтанное движение полезным для себя, для своих целей.
Геракл — напротив. Утомленный последними тяжкими испытаниями, он рассматривал это как подлое торпедирование его начинаний, обессмысливание всей его работы, осмеяние всей его жизни.
Он не стал, очевидно, толочь воду в ступе — разговаривать с недотепой Эврисфеем, — а прямо бросился к Атрею, его и призвал к ответу со всею страстью.
Не буду приводить их спор «дословно». С одной стороны, не хочется снизить исключительную серьезность темы игрою фантазии, хотя бы такая игра могла позабавить и меня самого и, пожалуй, Читателя. С другой же стороны, в споре этом довольно густо звучали такие словеса, которыми древние греки — и не только древние греки — пользовались, правда, и при письме, но которые жестоко оскорбили бы наш вкус, вздумай мы употребить их не только в обычной нашей повседневной живой речи, но и изобразить на бумаге. Итак, не буду подвергать испытанию вкусы Читателей, тем более что смело уповаю — поскольку речь идет о моих соотечественниках — на собственную их фантазию.
Присмотримся лучше к сути их спора.
Геракл нападал и призывал к ответу. Атрей твердил о своих добрых намерениях и безусловной воле к миру. Так ведь и принято. Он объяснял, что, с тех пор как находится у власти, единственная его забота — утверждение мира и взаимопонимания (в согласии с волей Зевса и Геракла, а как же!) на возможно большей части греческих земель. Рассказывал, что заставил-таки господ союзников, упрямых «родичей» раскошелиться во имя общего дела. Теперь-то имеются все предпосылки тому, чтобы Эллада не как бедная родственница, а с позиции силы включилась в мирное экономическое соревнование между народами. Впрочем, Гераклу это должно быть понятно: условием мира является военная сила. Для устрашения. Торгового мореплавания без соответствующего военного флота быть не может. Есть военный флот и у Сидона, у Египта и Трои. Военно-морская дипломатия испокон веков играла важную роль при заключении торговых соглашений, в поддержании мира на морских путях. Геракл просто мечтатель, ежели полагает, будто Приам или фараон сдержат данные ему обещания без равновесия сил на море. А всего лучше, говоря по правде, чтобы силы Микен ради вящей безопасности хоть немного перевешивали в этом равновесии.
Но пиратство! — упорно возвращался к больному вопросу Геракл.
Поначалу Атрей клялся, что Дворец к пиратству непричастен. Потом вздыхал: воинов, особенно моряков, держать в узде труднее, чем блох в горсти. Вспомнил случай, когда все началось с контратаки сидонцев. Вспомнил другой случай, когда самолично, и именно за пиратство, приказал разодрать, привязав к хвостам лошадей, некоего командира галеры — прямо в аргосском порту. (Незадачливый капитан, как видно, попытался прикарманить добычу.)
Однако Геракл «не с луны свалился» (эти слова, если не ошибаюсь, принадлежат не Аполлодору). У него имелись доказательства: к обеду, например, подали ливанские вина ливанского же разлива; во дворце поразительно много прислужников с характерной семитской наружностью — среди них и тот «привилегированный» слуга, почти гость, за которого надеются получить солидный выкуп; у самого же Атрея в кабинете стоит множество новехоньких декоративных предметов из золота и стекла, несомненно финикийского происхождения, которые из-за эмбарго вряд ли могли попасть в Микены прямым путем.
В конце концов, Атрей — не со зла, поскольку он был высокомерный, холодно расчетливый человек, а просто в сознании своей власти — также возвысил голос и цинически бросил гостю в лицо: военные экспедиции — лучший способ дисциплинировать солдата; без пиратства нет добычи, без добычи же — пусть Геракл, если может, из собственного кармана оплачивает этот паршивый жадный наемный сброд; вообще нет маневров лучше, ближе к реальности боевой обстановки, чем пиратские набеги.
— Маневры? — поймал его Геракл на слове. — Зачем?
Атрей попытался замять этот вопрос. Стал что-то бормотать о древних правах дома Пелопа в Малой Азии, которые он намерен восстановить — разумеется, мирным путем и именно поэтому — с позиции силы; мямлил о «вызывающих действиях» Трои, о сидонском «двуличии», о «запутанном положении в средней и северной Греции». И еще, разумеется, о благосостоянии народа, разоряющемся свободном земледельце, о необходимости удовлетворить воинов, когда придет пора распустить их по домам…
Иными словами, перед Гераклом открылась — если воспользоваться опять нынешней терминологией — националистическая, шовинистическая, империалистическая программа Атрея, приправленная обычной социальной демагогией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: