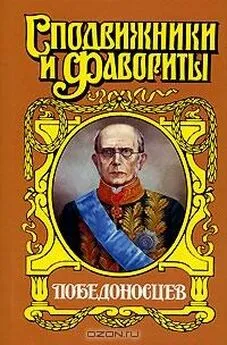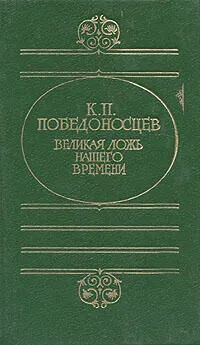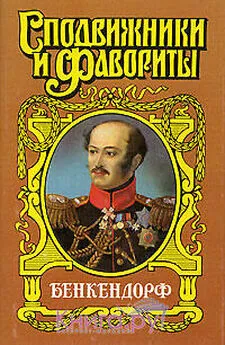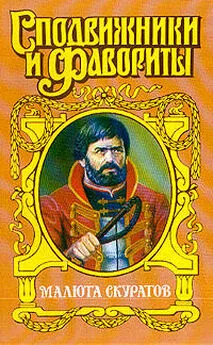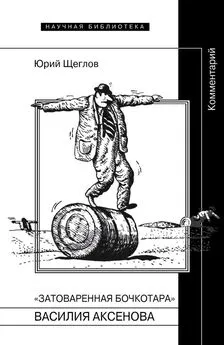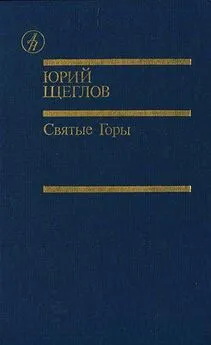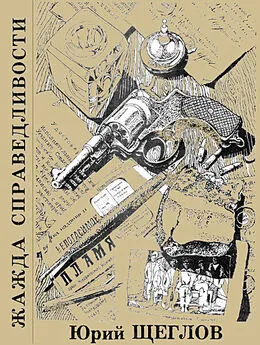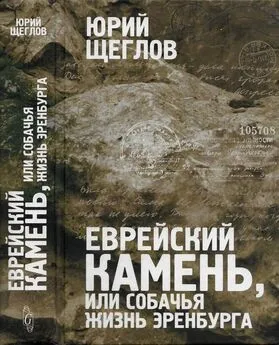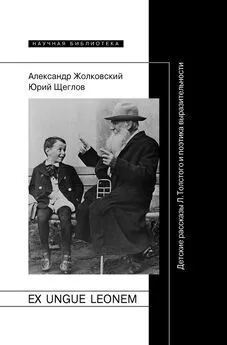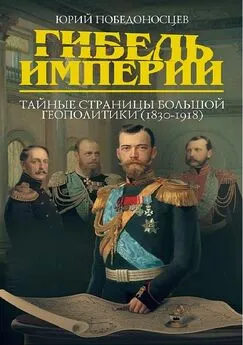Юрий Щеглов - Победоносцев: Вернопреданный
- Название:Победоносцев: Вернопреданный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель: АСТ
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-17-022237-8, 5-271-08107-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Щеглов - Победоносцев: Вернопреданный краткое содержание
Новая книга известного современного писателя Юрия Щеглова посвящена одному из самых неоднозначных и противоречивых деятелей российской истории XIX в. — обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву (1827–1907).
Победоносцев: Вернопреданный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как тут не вспомнить замечательные стихи Александра Сергеевича «Из Пиндемонти»:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова,
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
И Пушкин делает примечание к девятой строке: «Hamlet (Гамлет)».
В этом стихотворении еще трепещет надежда, оно иронично и горделиво.
Начальная строфа в стихотворении одного из лучших поэтов второй половины XX века Владимира Соколова, моего близкого знакомца, которому я посвятил повесть о Василии Андреевиче Жуковском «Небесная душа», лишена этих черт пушкинского шедевра — не только лирического, но и политического. У Соколова горечь и разочарование определяют внутреннюю тональность произведения:
Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.
Любимый поэт обер-прокурора знал, в чем счастье и в каких правах нуждается человек. Для Соколова освобождение — смерть.
Приведенные в конце главы строки Константина Петровича недобросовестно упрекать в стремлении обособить Россию от остального мира — остальной мир стоит на подобных же позициях. В самом начале XXI века континентальная Европа довольно резко отошла от североамериканского материка, продолжая между тем свой собственный путь в будущее, по-своему интерпретируя свод общечеловеческих правил и законов и настаивая на том, чтобы Россия и здесь придерживалась европейской версии и солидаризировалась с ней.
Тонко чувствующий природу теперь ставшего ему ненавистным Петербурга, Константин Петрович сравнил этот жидкий, холодный и ненастный рассвет, медленно поднимающийся над Литейным, с той атмосферой, которая окутала город задолго до выхода виттевского манифеста — в месяц страшного поражения в Цусимском проливе. Май, тоже холодный и ненастный, как бы подчеркивал горечь катастрофы. Сквозь текст принесенной ему Саблером листовки с виттевскими благоглупостями, этой правительственной гапоновщиной — Гапона он совершенно не переносил и был уверен, что негодяй вскоре падет от руки или тех, кого так ловко водил за нос, или от пули, посланной теми, от кого получал регулярно тридцать сребреников, — итак, сквозь ужасный текст просвечивались его собственные слова, как нельзя лучше опровергающие скалькированные с чужих образцов обещания, затасканные по западным парламентам. Гапоновщина, Цусима и виттевский манифест — это вещи одного исторического ряда, и недаром они неразрывно связаны во времени и следуют, дыша друг другу в затылок. Вслушаемся в мудрые фразы, за которые и теперь шельмуют Константина Петровича и которые вовсе не имеют того оттенка, какой им приписывают до сих пор.
Подав молодым юристам совет пробивать себе дорогу в полном собрании законов, обязательно делая отметки и выдержки, Константин Петрович продолжал: «С каждым томом читатель станет входить в силу и живее почувствует в себе драгоценнейший плод внимательного труда — здоровое и дельное знание, то самое знание, которое необходимо для русского юриста и к которым русские юристы, к сожалению, так часто пренебрегают, питаясь из источников иноземных: незаметно воспринимают они в себя понятия, возникшие посреди истории чужого народа, усваивают начала и формы, на чужой почве образовавшиеся и связанные с экономией такого быта, который далеко отстоит от нашего: естественно, что отсюда родится ложное понятие о потребностях нашего юридического быта и о средствах к их удовлетворению, пренебрежение или равнодушие к своему, чего не знают, и преувеличенное мнение о пользе и достоинстве многого такого, что хорошо и полезно там, где нет соответствующей почвы и соответствующих условий исторических и экономических».
Огромное достоинство собрания русских законов, по мнению Константина Петровича, состоит в том, что каждое явление юридическое, каждое положение представляется в связи со всей обстановкой быта, со всеми данными историческими «ив совокупности с ними объясняется». Этот курс, из которого сделано извлечение, несколько раз переиздавался. К нему примыкало знаменитое «Судебное руководство», где человеческий, как теперь любят выражаться, фактор играет превалирующую роль. Константин Петрович требовал, чтобы закон был лишь опорой для исполнителей и чтобы они располагали нужными знаниями и разумением, приобретаемым не из буквы закона, а из школы, и далее следуют удивительные слова: «…и из того совместно и последовательно накопленного запаса сил и опытности, который собирается трудом поколений».
Еще одна частная, но существенная тонкость. Формула «…не из буквы закона…» раздвигает рамки судебного разбирательства и не только дает дорогу прецедентному праву, но и гуманизирует обстоятельства, складывающиеся в камере следователя и зале суда. Подобное отношение к основам гражданского права не могло не повлиять на право уголовное, на преследования людей по самым различным мотивам.
Конечно, извратить можно рее — тому неисчислимы примеры в нашем Отечестве, но если подойти к сказанному прямо и исполнять завет умного и знающего юриста, то многих бед легко и сегодня избежать, а о близком прошлом и говорить нечего! Особым совещаниям при НКВД и проклятым «тройкам» места здесь нет, да и внесудебным расправам тоже.
Тень Жуковского
В конце русско-турецкой войны, так и не получившей названия, войны безымянной, не обнаружившей одним словом своего нутра, как, например, Отечественные войны России в XIX и XX веках, Константин Петрович убедился в том, что морское ведомство одно из самых слабых в правительственной цепи империи. Общество Добровольного флота должно было составить определенную конкуренцию и дать толчок к новому развитию не только пароходства, но и военной составляющей, без которой Россию вытеснили бы из Мирового океана, превратив в сухопутную державу на радость Англии, Франции, Германии и Италии. Жалкое зрелище представляет собой огромная страна без выхода на водные просторы. Славянские народы особенно нуждались в овладении вторым пространством, а русским без моря и, следовательно, флота — зарез. Иван IV, хоть и мучитель, и Петр, действительно Великий, острее других правителей это чувствовали и понимали. Страна невиданных размеров без морей и портов — не страна, а территория.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: