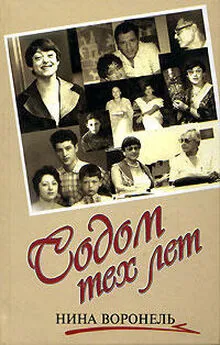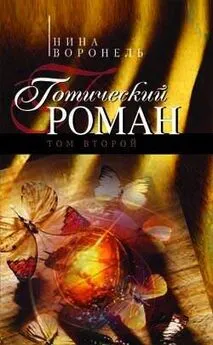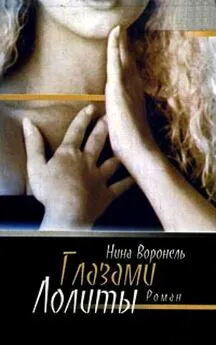Нина Воронель - Оригиналы
- Название:Оригиналы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал 22
- Год:неизвестен
- Город:Иерусалим
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Воронель - Оригиналы краткое содержание
Оригиналы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он создал инсталляцию в виде двух натуральных кабинок грязного общественного туалета, и посетители выставки в музее Помпиду заходили в эти кабинки с не меньшим удовольствием, чем в чистые кабинки подлинного туалета музея. Причем о посещении туалета-экспоната они восторженно рассказывали своим друзьям, тогда как посещение подлинного туалета оставалось личной тайной каждого.
Много лет спустя, услышав мой рассказ о заветных зеленых туалетах в музее Помпиду, известный немецкий славист проф. Вольфганг Казак, неожиданно забыл правила вежливости и заорал пронзительным фальцетом:
- Настоящих лагерных сортиров он не отведал, ваш Кабаков! Посидел бы он на дощатом насесте длиной в триста очков, он бы такие сантименты вокруг сортиров не разводил!
Оказалось, что замечательный русский язык крупнейшего немецкого специалиста по русской литературе, был выучен им в лагере военнопленных, куда он попал в семнадцать лет. Он провел в этом лагере три года, которые оставили несмываемую печать в его душе – и общий сортир в триста очков сверкал там ярким пятном.
- А двери там были? – наивно осведомилась я.
- Двери, - взвыл профессор. – Дверей ей захотелось! Это в музее Помпиду были двери, а не в лагерном сортире!
Но Илья Кабаков, к счастью, не сидел на лагерном насесте и мог позволить себе безнаказные игры вокруг российских сортиров.
Подметив, что инфляция поразила не только живопись, но и книгопечатание, М.Гробман остроумно выделил свою книгу стихов на фоне других книг - если всмотреться в изящную кружевную вязь, омывающую очертания юной гологрудой (топлесс) Музы на обложке книги, легко увидеть, что вязь эта образована бесконечно повторяющимся словом "хуй". Каждый глянет мимолетно, прочтет, не поверит своим глазам и посмотрит снова - чтобы убедиться. Вот и прекрасно - цель достигнута: повторный взгляд, притом пристальный - это уже внимание!
Разглядывая изрисованную охульным ажуром обложку охальной гробманской книжки, призывающей покончить с нашей "любимой гниющей эстетикой" и идти вперед, на Багдад, я вдруг поняла главный секрет концептуальных авангардистов.
Что бы они ни вытворяли - строили ли сортиры в выставочных залах музеев, украшали ли Музу каллиграфическим кружевом матерных слов, развешивали ли по стенам картинных галерей обагренные менструальной кровью тампоны, - все они по сути, подобно герою юношеского стихотворения Е. Евтушенко, с трогательным упорством повторяют одну единственную фразу:
- Граждане, послушайте меня!
А гражданам не до них, у граждан простые житейские заботы - квартира, колбаса, колготки, на что им Муза, даже если она «топлесс»?
Словно желая проиллюстрировать мой диагноз о возвращении авангардизма в лоно синкретического искусства, поэт Андрей Вознесенский как-то прислал мне в подарок свою книгу "Видеомы". Нет, если кто не знает, - это не сборник стихов, это каталог выставки графики автора в музее А. С. Пушкина. В предисловии к книге поэт (во всяком случае, раньше я числила его в поэтах, хотя, может, он уже давно играет ноктюрны на флейте водосточных труб) Генрих Сапгир назвал "Видеомы" вершиной творчества А.Вознесенского: "В своих видеомах Андрей Вознесенский авангарднее самого себя. Он работает на рубеже поэзии и пластического искусства".
Подумать только - совсем как И.Кабаков и М.Гробман!
Сговорились они, что ли?
ЕФИМ ЛАДЫЖЕНСКИЙ
Самой страшной из выставленных в Иерусалимском музее картин известного в «той жизни» художника Ефима Ладыженского, был его пророческий автопортрет – на нем многократно повторялась мертвая голова художника, только-только вынутого из петли. Он повесился меньше, чем через год, после того, как выставленные в музее картины сняли со стен. Я чуть было не сказала «вынули из петли».
Чем же так огорчила его Земля Обетованная?
Когда он впервые ступил на нее, чемоданы его были почти пусты: ему удалось вывезти из Советского Союза лишь ничтожную часть картин, созданных им за пятьдесят творческих лет. Но было бы наивно думать, что он оставил созданные им полотна "Тому, Кто Не Позволил Их Взять". Чтобы наказать этого безликого злодея, упрямый старик собственной рукой уничтожил около двух тысяч своих творений.
Уж не знаю, что именно он с ними сделал – сжег, изорвал в клочки или разрезал ножницами, – но, совершив это отчаянное самоубийство, он гордо вскинул свою седую взъерошенную голову и уехал на Еврейскую Землю. Земля эта, однако, оказалась совсем не такой, как он ожидал, не такой, какую он рисовал красками на холсте и углем на картоне.
"Здесь, в Израиле, я не вижу евреев, которых я знал и любил,– сказал Ладыженский журналистам, как мухи на мед, слетевшимся на его выставку, – шутка ли, первый художник из бывших наших, удостоившийся такой чести! Но Ладыженский никакой особой чести в этом не увидел, ведь он!!!!! изначально был обижен тем, что никто из членов правительства не приехал встречать его в аэропорт - Я вижу абсолютно разные группы: это совершенно другие люди, я их не знаю".
Что ж, он прав – он видел и рисовал других людей, более добрых, более мудрых, более достойных быть изображенными на его холстах. Картины, висящие вдоль шершавых музейных стен, частично вывезены художником из Москвы, а частично восстановлены по памяти, - но уже не маслом или темперой, как были писаны оригиналы, а черной пастой детских шариковых ручек. Их прислали несговорчивому старику оставшиеся в Союзе дети, потому что в знак протеста – на этот раз уже против новой Отчизны, которая оказалась столь непохожей на его идеал, – Ладыженский отказался пользоваться ее рисовальными принадлежностями: пусть ИМ будет хуже!
Чем же так рассердила его вновь обретенная Родина? При некоторых допущениях ответ на этот вопрос можно получить из внимательного изучения его работ, красивых, гармонично скомпонованных, многолюдных и – как ни странно говорить это о живописи – шумных, многоголосых.
Светится, переливается и поет сцена "В одесском ресторане": на коричневом фоне узорного паркетного пола, увиденного как бы сверху, с потолка, вдоль светло-коричневых стен разместились нарядные, крытые белыми крахмальными скатертями столики. За каждым столиком – одетые в белое посетители, которых обслуживают официанты в белых куртках. Только одна маленькая деталь нарушает почти натуралистический на первый взгляд облик этого нарядного веселого бело-коричневого сборища, поблескивающего серебром ножей и вилок, посверкивающего хрусталем бокалов под скрипичные переливы ресторанного оркестра: художник не позаботился пририсовать стулья под сидящими у столиков фигурками обедающих.
Нарядные эти фигурки как бы подвешены в пространстве вокруг столиков, и в свете этого их парения вдруг открывается второй, совсем не реалистический, план картины, объясняющий и ангельскую белизну одежд, и пронзительную ноту затаенной печали в разухабистой мелодии, исполняемой оркестром. Нет почвы подо всем этим весельем, как нет в реальной жизни ни ресторана этого, ни дам в воздушно-белых туалетах, любезничающих с франтами в белоснежных пиджаках – есть только память, неумирающая память художника о своей юности, о невозвратимом времени, когда все женщины были желанны, все кавалеры элегантны, все музыканты радовали слух.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: