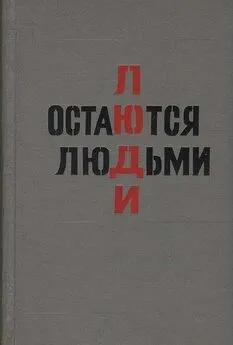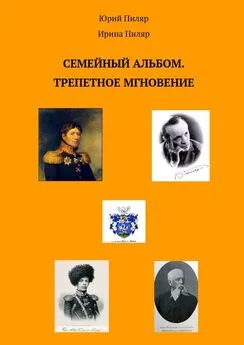Юрий Пиляр - Люди остаются людьми
- Название:Люди остаются людьми
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Пиляр - Люди остаются людьми краткое содержание
Юрий Пиляр. ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ. Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.
В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.
Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.
Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.
Люди остаются людьми - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я сижу с Афоней до тех пор, пока снаружи не доносится удар лазаретного колокола, возвещающего о начале дневной проверки.
Во время раздачи обеда Афоня ухитряется сунуть мне лишнюю миску супа; я по-товарищески делюсь с французами. Под вечер, закончив мытье посуды, он снова зовет меня, усаживает на свою койку и потчует сырым кольраби.
Он рассказывает о себе, и я узнаю подробности гибели в Маутхаузене первой группы советских военнопленных, в основном пограничников, попавших в руки врага в первые дни войны. Он здесь быстро выучился тесать камни и лишь благодаря этой работе уцелел: эсэсовцы ведь сильно наживаются на труде каменотесов. В лазарете Афоня очутился весной, да тут и застрял. Спасибо писарю-поляку, он поимел в виду, что Афоня давно в лагере, и поставил его после излечения мыть миски. Он хотел бы продержаться на ревире до конца войны, но это уж, конечно, как удастся.
— Наши-то, кажись, уже к Польше продвигаются, — шепчет он. — Так что терпи, земляк, возможно, еще вместе домой поедем.
Афоню выписывают в начале ноября, когда в лазарете проводится общий осмотр. Уходя, он ставит меня на свое место в судомойку. Писарь-поляк, крупный, чернобровый, мрачноватый человек, не возражает. Мы с Афоней договариваемся не забывать друг друга.
От чесотки я уже почти избавился, и мне возвращают верхнюю одежду. Трижды в течение дня я собираю пустые миски, мою их, затем составляю на проволочной сетке, прикрепленной над теплой батареей. В обед я помогаю двум другим уборщикам разносить похлебку. За нами обычно следит блоковой.
Так как в бараке ежедневно умирают дистрофики, у нас всегда есть небольшой излишек похлебки. Его делят между собой блоковой, писарь, врач и парикмахер-испанец. Блокперсонал здесь питается отдельно от больных, и я вначале не понимаю причин такой жадности. Вскоре, однако, я вижу, что блоковой отдает свою долю старичку-санитару, парикмахер-испанец через уборщиков выменивает колбасу у больных (миска брюквы кажется все-таки сытнее), а писарь и врач украдкой кое-кого подкармливают.
Я, как и остальные уборщики, получаю в обед рабочую порцию — три четверти литра, больным полагается только пол-литра. Я не наедаюсь, я по-прежнему постоянно голоден, но меня мучает совесть, что я ем побольше, чем мой старый товарищ Лешка Толкачев, лежащий на койке: в зондерблоке мы делили пополам каждую лишнюю кроху еды.
Однажды после обеда в судомойку заходит писарь и велит мне отнести миску супа французскому инженеру, с которым прежде я вместе лежал.
— Вы разве знакомы с ним? — спрашиваю я. Писарь хмуро сдвигает брови.
— Привыкай не задавать глупых вопросов. — Он, как и большинство поляков старшего возраста, сносно говорит по-русски. — Иди скоро.
Дня два спустя он дает мне новое поручение: я отношу похлебку политзаключенному немцу, прибывшему из Бухенвальда.
В третий раз, доставив миску брюквы одному незнакомому мне русскому, я осмеливаюсь поговорить с писарем насчет Толкачева.
— Это мой коллега, — говорю я. — Нельзя ли немного помочь ему?
— Какой нумер? — мрачновато справляется писарь.
Я колеблюсь, но все же называю номер Толкачева. Писарь уходит в свою комнатушку и через несколько минут возвращается.
— Завтра достанешь зупа для своего друга.
То есть завтра я получу миску супа для Толкачева… «Интересный человек этот писарь, — думаю я. — Кто он — коммунист?»
Теперь я каждый день по его заданию подкармливаю то одного, то другого больного. Писарь, как и раньше, не вступает со мной в объяснения: просто сунет миску, пробурчит, кому отнести, и все. Я, в свою очередь, стараюсь не задавать ему «глупых» вопросов.
Раз он будит меня, когда в бараке еще темно. Я быстро одеваюсь и иду за ним в судомойку.
— Вот тебе сигарета, выведи привратника с блока и покурите там, потребно минут пять задержать его. Сможешь?
— Смогу, наверное.
— Минут пять-шесть.
Писарь слегка волнуется, его негромкий голос подрагивает, и я, сам не зная отчего, тоже начинаю волноваться.
— Хорошо, — говорю я.
— Огонь есть?.. Вот маешь запальничка. — Он дает мне зажигалку. — Але минут пять-шешчь…
— Хорошо, хорошо.
Привратник, беззубый немец-уголовник, дремлет на табурете у двери. Над ней мерцает маленькая электрическая лампочка-ночник. Когда я подхожу, немец полуоткрывает один глаз, потом второй, затем настороженно выпрямляет туловище, обтянутое теплой вязаной курткой.
— Сервус, Готтфрид! — приветствую я его. У меня натурально-хрипловатый голос, как у всякого курящего, который только что проснулся.
— Сервус. Ты что так рано вскочил?
— У тебя есть сигареты? Я могу дать за две штуки свою вечернюю колбасу.
— Ах, откуда, человек (Mensch, woher denn)? — ворчит Готтфрид. Он злой курильщик — это всем известно, — и мне надо как-то раздразнить его.
— Не жадничай, Готтфрид, давай покурим.
— Разве ты куришь, ты, петух?
— Да, Готтфрид, и я сейчас умру, если ты не одолжишь мне сигарету… Будь добр!
— Человек! — Он елозит на табурете. — Я тоже подохну, если мы сейчас же не организуем сигарету.
— Мы не подохнем, дорогой Готтфрид, — говорю я. — У меня есть одна.
Он ощеривает беззубый рот в улыбке.
— Ты, бандит!
— Идем. — Я отмыкаю крючок на двери. Осторожно выбираемся на улицу. Колючий забор лагеря-лазарета залит электрическими огнями. Небо вдали мглистое, там еще ночь, но если посмотреть прямо над головой, оно светлее, как неровно и несильно закопченное стекло. Вероятно, скоро будет рассвет…
Бесшумно входим в барак. Я на цыпочках пробираюсь к койке. Успел ли писарь закончить свое таинственное предприятие?
Днем писарь вручает мне две миски похлебки.
— Одну — тому поляку, который лежал на третьей лужке (койке), он теперь с тем французом, инженером, другу можешь дать своему коллеге, политруку.
Значит, он знает, что Толкачев политрук?.. А когда перевели поляка с третьей койки к французам? Может, этим делом писарь и занимался ночью? Но почему ночью? Почему тайно?
— Мне ничего не надо говорить Зигмунду? — спрашиваю я про того поляка.
— Он не Зигмунд, он Юзеф, — тихо и твердо говорит писарь. — Зигмунд умер. Юзеф — розумешь?
— Юзеф, — отвечаю я. — Так. Я ошибся. Кажется, я начинаю кое-что понимать.
На наш блок иногда заходит крепкий невысокий поляк — второй писарь лазарета. Он приносит учетные карточки вновь поступивших больных и забирает карточки тех, кто выписан или умер. У него светлые глаза и волевой подбородок — лицо сильное, жестковатое, чуть замкнутое, как у большинства старых политзаключенных. Наш блоковой побаивается его, писарь на виду у всех отвечает ему по-немецки «слушаюсь», но, оставаясь с глазу на глаз, называет его по-приятельски Казиком. Время от времени, когда блокового нет в бараке, Казик и писарь, уединившись, о чем-то совещаются. Я в эти минуты должен наблюдать за выходом и тотчас предупредить их, если вернется блоковой или войдет кто-либо из эсэсовцев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: