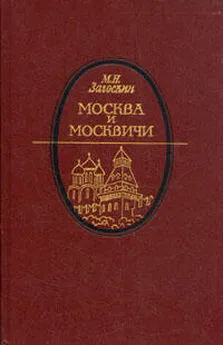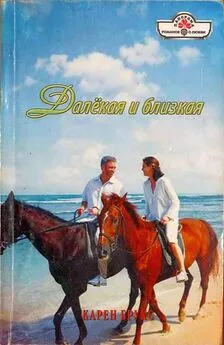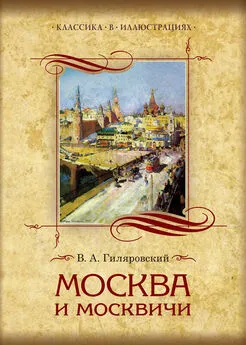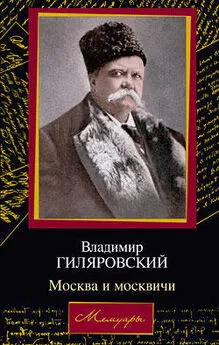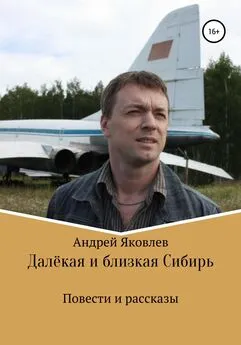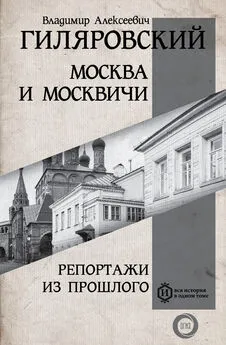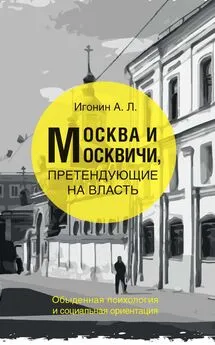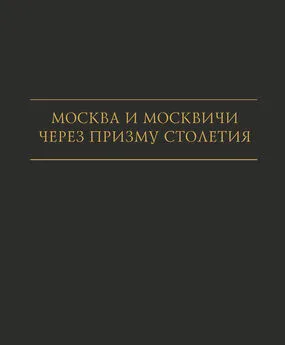Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
- Название:Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русскій міръ
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-89577-066-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1 краткое содержание
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.
В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не менее низко кланялись москвитяне и двум дьякам, которые тоже стенами растущими любовались: дьяку Бородатому, великому знатоку летописей, и дружку его, дьяку государеву Фёдору Курицыну. Переводчик апокрифического «Лаодикийского послания» с его стремлениями освободить «самовластную» человеческую душу от тех «заград», какие ставила ей вера, дьяк Фёдор был известен всей Москве как великий вольнодумец, что не мешало ему, однако, быть в большой чести у великого государя. Дальше, вызывая насмешки одних и жгучую зависть других, красовались несколько московских «блудных юношей». Поверх исподнего, до колен, платья на плечах их была накинута «мятель», по-старинному — корзно, синяя, красная, зелёная, багряная, золотистая. Подол исподнею платья был обшит золотой каймой, а на рукавах были золотые поручи. Атласный откидной воротник был большею частью золотистый. На груди сияли золотые петлицы. Пояса украшены были золотыми и серебряными бляхами, бисером, дорогими каменьями. Мятель была из дорогого аксамита, расшитая шелками многоцветными. На голове красовалась шапочка из цветного бархата с собольей опушкой. А сапоги, сапоги!.. Шли они, «повесимши космы», — старый обычай брить голову выводился, — истасканные, нарумяненные, с намазанными губами, с подведёнными ресницами и бровями. Отцы гремели обличениями против щапов сих [53] Отцы гремели обличениями против щапов сих… — т. е. против щеголей . Прим. сост.
, которые «велемудрствовали о красоте телесней, украшали ся паче жён, умывании различными и натираниями хитрыми, и ум которых плакал о ризах, ожерельях, о пугвицах, которыми засыпали они одёжу свою и шапку и даже сапоги, о намизании ока, о кивании главы, о уставлении перстов…» Даже в церкви Божией блудные юноши сии, которые, по мнению отцов, «соблазнительнее жён человекам бывают», вели себя непозволительно: «Егда срама ради внидеши в божественную церковь и не веси, почто пришёл еси, позевая, и протязаяся, и нога на ногу поставляешь, и бедру выставляеши и потрясаеши, и кривляешися, яко похабный…» Но священные вопли сии оставались бесплодными: щапы продолжали блистать. Да и немудрено, что они батюшек не слушались: тут же, в толпе кремлёвской, разгуливались эти самые батюшки в самых ярких рясах, упестрённые и в богато «измечтанных сапозех».
А вот целой семьёй идёт какой-то купец московский — все упитанные, все потные от одёжи тяжёлой, все довольные, что и им завидуют люди. Сынок глаз не сводит со щапов знатных, но о подражании им и думать не смеет: ох, крепок, ох, жесток батог у родителя! И не потерпит ндравный старик посрамления обычаев дедовских даже и в малом.
А вот точно крадётся всей Москве известный мних [54] Мних — монах . Прим. сост.
, сербин Пахомий Логофет, высохший старик с вострень-ким носиком, который всё к чему-то словно принюхивается, и хитрыми и подобострастными глазками. Своими писаниями духовными зарабатывал ловкий старец немало серебра, кун и соболей. Составлял он, главным образом, жития святых, но занимался и историей. Русскую историю ловкач начинал с разделения земли Ноем между его сыновьями. Далее следовал перечень властителей и царей, среди которых были названы Сеостр и Филикс, цари египетские Александр Македонский и Юлий Цезарь. У Цезаря был брат Август. Когда Цезарь был убит, Август был в Египте. Его облекли в одежду Сеостра, а на голову ему возложили митру Пора, царя индейского. Учинившись таким образом владыкой вселенной, Август стал распределять земли между своими братьями и родственниками. Одному из них, Прусу, он отдал земли по Висле — так и зовётся та земля Пруссией. Некий воевода новгородский Гостомысл перед смертью созвал новгородских «владельцев» и посоветовал им послать в Прусскую землю послов, чтобы пригласить к себе владельца оттуда. Послы нашли там некоего князя по имени Рюрика, суща от рода римска Августа-царя. Ну, а дальше всё пошло как по маслу. Как же можно было отказать в злате, серебре и соболях искусному историку?..
И шли, шли медлительно и важно вдоль строящихся стен кремлёвских бояре, купцы, иноземцы, на которых все с испугом таращили глаза; ремесленники, мужики подгородние, попы, мнихи чёрные, бабы останавливались и, как околдованные, не могли оторваться.
— A-а, и ты здесь, Вася? — проговорил князь Семён, завидев задумчиво стоявшего в стороне Василия Патрикеева. — Как дело-то подвигается! Ровно в сказке!
Он немножко побаивался этого беспокойного «мятежелюбца», но Патрикеев — всегда Патрикеев. А кроме того, оба принадлежали к старобоярской партии, которая хмуро смотрела на возвышение князей московских и на их крутое владение. В борьбе, которая велась за старые вольности боярства, именно такие мятежелюбцы и были особенно нужны. Великий князь, кроме того, весьма благоволил к молодому Патрикееву и часто, несмотря на его молодость, поручал ему ответственные дела — в особенности в сношениях с иноземцами.
— Да, и я поглядеть пришёл, зятюшка, — рассеянно отвечал князь Василий. — По кирпичику кладут, а дело делается.
Это сказал он больше для себя; он по кирпичику класть не умел: ему хотелось, чтобы всё ему нужное по щучьему велению делалось, как в сказке… А в последнее время был он сумрачен более обыкновенного. Дума о Стеше жгла и мучила его, как на дыбе, днём, а в особенности ночью. А постылая жена — глазоньки не глядели бы на фефёлу! [55] Фефёла — толстая, некрасивая баба . Прим. сост.
— вздумала, чтобы привязать его к себе, прибегнуть к старому бабьему средству: она омыла водой всё свое тело и дала ему ту воду пить. За такие приворотные художества отцы налагали епитимью на год, но он, когда дурость эта открылась, бабе непутёвой сказал только: «Дура!» — и, хлопнув в сердцах дверью, ушёл вон из дому.
— А ты послушай-ка, что наш Митька Красные Очи поёт! — усмехнулся вдруг князь Семён, показывая глазами на нищего, который сидел, ножки калачиком, в пыли и тянул известный стих о вознесении.
— А-а-а-а… — гнусаво тянул красноглазый урод. — Да а-а-а-а… А да а-а-а-а…
Содержание стиха было, однако, таково, что многие каменщики бросили кладку и, потупившись, слушали нытьё нищего о том, как накануне Вознесения расплакалась нищая братия: «Ох ты, гой еси, Христос-царь небесный, на кого ты нас оставляешь? Кто нас поить-кормить станет, обувати, в тёмные ночи охраняти? Христос обещает дать нищим гору крутую, золотую, но Иван Златоустый просит Его не давать нищим золотой горы. Зазнают гору князья и бояре, зазнают гору пастыри и власти, зазнают гору торговые гости, отоймут они у нищих гору золотую, по себе они гору разделят, по князьям золотую разверстают, а нищую братию не допустят. Много у них будет убивства, много у них будет кроволитства, да нечем будет нищим питатися, да нечем им приодетися и от тёмные ночи укрытися». И советует Иван Златоустый Христу дать лучше нищим имя своё святое: будут нищие по миру ходить, каждый час будут Христа прославлять, и тем будут сыты и довольны. За этот совет и дал Христос Ивану золотые уста.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: