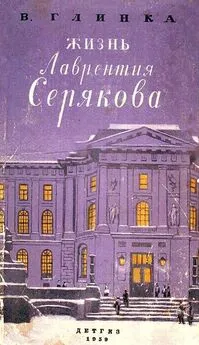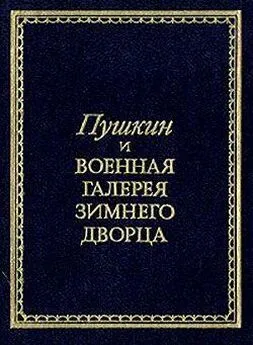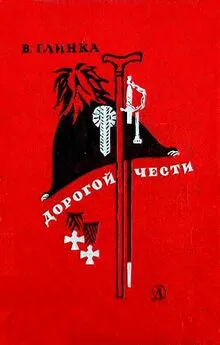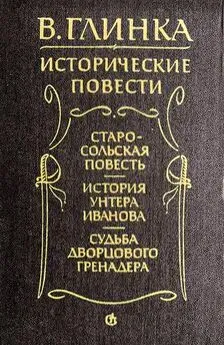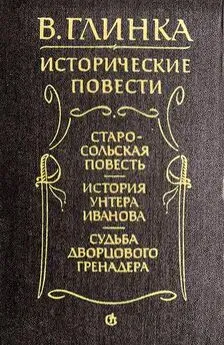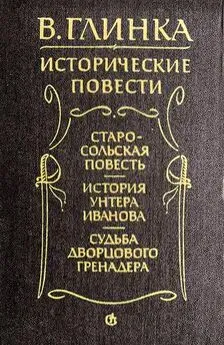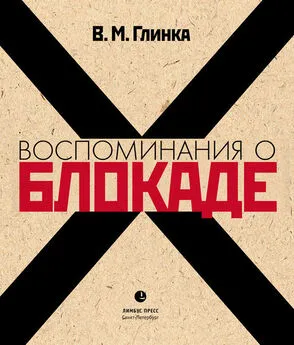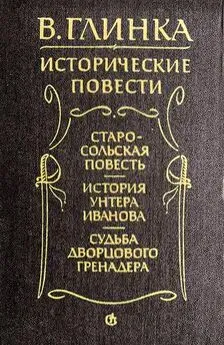Владислав Глинка - Жизнь Лаврентия Серякова
- Название:Жизнь Лаврентия Серякова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детгиз
- Год:1959
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Глинка - Жизнь Лаврентия Серякова краткое содержание
Жизнь известного русского художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова (1824–1881) — редкий пример упорного, всепобеждающего трудолюбия и удивительной преданности искусству.
Сын крепостного крестьянина, сданного в солдаты, Серяков уже восьмилетним ребенком был зачислен на военную службу, но жестокая муштра и телесные наказания не убили в нем жажду знаний и страсть к рисованию.
Побывав последовательно полковым певчим и музыкантом, учителем солдатских детей — кантонистов, военным писарем и топографом, самоучкой овладев гравированием на дереве, Серяков «чудом» попал в число учеников Академии художеств и, блестяще ее окончив, достиг в искусстве гравирования по дереву небывалых до того высот — смог воспроизводить для печати прославленные произведения живописи.
Первый русский художник, получивший почетное звание академика за гравирование на дереве, Л. А. Серяков был автором многих сотен гравюр, украсивших русские художественные издания 1840–1870 годов, и подготовил ряд граверов — продолжателей своего дела. Туберкулез — следствие тяжелых условий жизни — преждевременно свел в могилу этого талантливого человека.
В основе этой повести лежат архивные и печатные материалы. Написал ее Владислав Михайлович Глинка, научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
Жизнь Лаврентия Серякова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это я знаю. Видел, когда был дворником, крестьян, которые побирались здесь, тоже запроданные помещиками на постройку Московской дороги, — сказал Лаврентий.
— Да, это, видно, везде так делается, — продолжал Клодт. — А в декабре, когда подрядчик заранее приехал к помещику заручиться на будущую весну новым договором, крестьяне его увидели и возмутились: «Не хотим больше идти работать впроголодь и семьи свои губить!..» Попросили они Генриха Федоровича, которого хорошо узнали и которому вполне доверяли, поговорить с помещиком… Он поговорил, даже поспорил, сначала пытался доказать, что это для него же невыгодно в будущем, что крестьяне его обнищают, потом сказал, что это бесчеловечно. Должно быть, разговор вышел крутой, потому что Линк после этого взял расчет и переехал к сестре в Минск. Но крестьяне не успокоились и стали посылать ходоков с прошениями к губернатору, в Казенную палату и еще куда-то… На несчастье, Генрих Федорович продолжал бывать в селе — у него осталась там привязанность, крестьянская девушка, на которой он собирался жениться. Помещик обвинил его в подстрекательстве крестьян к бунту. Должно быть, и в самом деле Линк давал им советы, куда жаловаться, писал прошения. Его арестовали у этой девушки. Панские гайдуки и полицейские избили его, связали и повезли в город на дровнях, едва прикрыв только старой холодной шинелью. А был крепкий мороз. В городе посадили в острог. Он простудился страшно, и его скоро перевели в тюремный лазарет…
— Неужто умер? — не выдержал Серяков.
— Да, двадцатого января… И просил Шарлотту, которую к нему пустили перед концом, передать вам и мне свой последний дружеский привет… Жалеет, мол, что рано приходится умереть, но не жалеет о том, что сделал. Уж если умирать, так за что-то доброе и справедливое…
Полночи бродил Серяков по улицам после этого разговора, не замечая, что февральская вьюга засыпала его снегом с ног до головы, что промерз и устал. Несколько раз останавливался у подъезда на Стремянной, из которого выходили когда-то с Линком на вечерние прогулки. Сердце разрывалось от тоски и возмущения. Вспоминались крестьяне, которых видел когда-то просящими милостыню на улицах, — оборванные, худые, голодные. Вспоминался лазарет, в котором лежал в горячке. Верно, тюремный-то был еще хуже, где же тут выжить?.. Ах, боже мой, боже мой! Что же это такое? Неужто никогда не придут в Россию справедливость и человечность?.. Что же он-то, Серяков, должен делать, чтобы быть достойным своего покойного друга?..
Работа сама нашла Лаврентия в начале марта. Однажды утром перед домом, где жили Антоновы, остановилась карета, запряженная раскормленными лошадьми. Из нее вышли два осанистых иеромонаха. Богомольная старуха соседка с поклонами проводила их во двор и указала дверь художника. Усевшись в комнатке Лаврентия, старший монах начал речь восхвалением известного многим таланта его благородия, после чего предложил ему взять на себя руководство граверной мастерской Киево-Печерской лавры, с тем чтобы и самому участвовать «своим искусным резцом» в изображениях, украшающих книги, которые выпускает лаврская типография. При этом держаться, конечно, надобно не нового вкуса, чтоб не смахивало на светские картинки, а работать по старым киевским образцам XVIII века, к которым привыкли молящиеся. Условия службы отличные: отдельный домик с прислугой, отоплением, освещением, лошади для выезда в любое время с конюшни митрополита, а летом — дача на берегу Днепра. И сверх того, разумеется, хорошее жалованье.
Но разве такой работы хотел Лаврентий? Разве стоило учиться в академии, чтобы копировать изображения святых из старых книг? Он отвечал, что благодарит за честь, но он человек не свободный — чиновник военного министерства, со дня на день ожидает назначения, а потому и не может никуда уехать. Но иеромонах возразил, что на сей предмет его преосвященство напишет военному министру, и, верно, ответ получится благоприятный, конечно если господин Серяков согласится. Лаврентий и тут нашелся что ответить. Сейчас он накрепко привязан к Петербургу, решившись весьма скоро начать гравирование новой большой доски, уже на звание академика. Недовольный иеромонах насупился, и Серяков схитрил, добавив, что, получив это звание, он, верно, будет больше подходить к предложенной высокой должности, а пока готов резать здесь для лавры, готов хоть сейчас же, если ему вручат оригиналы и подойдет оплата.
На том и порешили. Через день Лаврентий уже сидел над старинным томиком, искусно переплетенным в тисненную золотом свиную кожу. Картинки, к его удивлению, не походили на виденные им раньше церковные гравюры московской работы. Здесь явно чувствовалось влияние европейского искусства, а порой без труда можно было угадать, с какой известной гравюры на религиозный сюжет копировал мастер.
Серяков сказал иеромонаху правду. С самого рассказа Всеславина о прениях в совете он подумывал взяться за гравирование на звание академика. Раз за «Голову старика» хотели дать это звание, значит, присудят за следующую — надо думать, лучшую доску. Нужно ковать железо, пока горячо, пока есть возможность без помехи заняться этим. Звание академика уж наверное избавит его от должности рисовальщика каких-нибудь форм обмундирования. Да что формы! Это бы еще полгоря — там хоть люди, лошади, ландшафты, — а вот рисовать, скажем, ружейные замки, курки, то, как должно скатывать шинель или попону, — это, право, и в мыслях наводит уныние.
В апреле Серяков отправился к Бруни и рассказал о своих планах.
— Конечно, конечно, беритесь не откладывая, — поддержал его Федор Антонович.
И вот они опять ходят по залам Эрмитажа, выбирая картину. Василий Васильевич тоже ковыляет следом и мимикой, а порой и вставленным в разговор словом участвует в обсуждении.
— Тут колориту много, — говорил он шепотом Серякову, указывая большим пальцем через плечо на только что обсужденную картину. — Она больше живописью берет, а тебе неспособна.
Успехами Лаврентия Василий Васильевич гордился чрезвычайно: подумать только, свой брат солдат и вот что сделать сумел! Такой очень просто и в академики выйдет…
«Ты, главное, куражу не теряй, все выйдет в аккурате», — подбадривал он Серякова, если тот говорил, что картина ему нравится, но трудна для гравирования.
Однако по сравнению с прошлым годом у Лаврентия было куда больше «куражу». Он уже не прочь был взяться за композицию из нескольких фигур. Должно же что-то отличать новую задачу от прежней. Особенно привлекал Рембрандт с его контрастами света и тени. Небольшую картину «Неверие апостола Фомы» — вот что хотелось награвировать. Посередине светлая, распространяющая сияние фигура Христа и отшатнувшийся, не верящий его воскресению Фома. Вокруг — живописная группа учеников. Нечто важное, значительное чувствовал Серяков в теме картины: так же, как Фома, не верят многие тупые люди всему, что выходит из круга их застывших, ограниченных понятий… Ну, хотя бы тому, что к крепостным должно относиться по-человечески… Бруни согласился с его выбором, и назавтра с прошением в руке Лаврентий вновь вошел в кабинет конференц-секретаря.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: