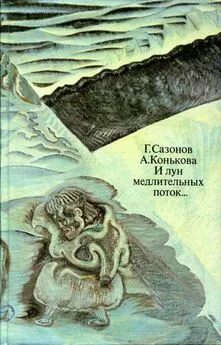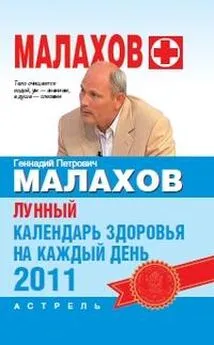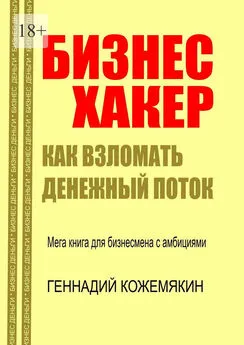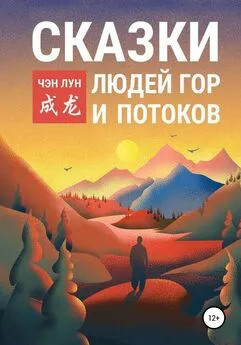Геннадий Сазонов - И лун медлительных поток...
- Название:И лун медлительных поток...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Средне-Уральское книжное издательство
- Год:1990
- Город:Свердловск
- ISBN:5—7529—0226—6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Сазонов - И лун медлительных поток... краткое содержание
«Неохватные кедры просторно раскинули тяжелые кроны, словно держат на себе задремавшую тяжесть времени…» В безбрежность тайги, в прошлое северного края погружаемся мы с первых страниц этой книги. Здесь все кажется первозданным — и природа, и борьба за существование, и любовь. «И на всю жизнь, на всю долгую жизнь в Мирона вошло и осталось пронзительное, неугасимое удивление перед женщиной, что горячим телом, обжигающим ртом защитила его, оборонила от смерти. Она обнимала его нежно и плотно, обнимала волной от головы до пят, она словно переливала себя в Мирона, переливала торжественно и истово…»
Роман-сказание — так определили жанр книги ее авторы тюменский писатель Геннадий Сазонов и мансийская сказительница Анна Конькова. Прослеживая судьбы четырех поколений обитателей таежной мансийской деревушки, авторы показывают, как тесно связаны особенности мировосприятия и психологии героев с поэтичным миром народных преданий и поверий, где «причудливо, нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и волшебство».
В центре произведения — история охотничьего рода Картиных с начала XIX века до последнего его десятилетия. Авторы хотели продолжить повествование, задумана была вторая книга романа, но кончина писателя Геннадия Сазонова (1934–1988) оборвала начатую работу. Однако переиздается роман (первое издание: Свердловск, 1982) в дополненном виде — появилась новая глава, уточнен ряд эпизодов.
На переплете — фрагмент одной из картин художника Г. С. Райшева.
И лун медлительных поток... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Апрасинья еще девчонкой, в десять зим ростом, далеко ушла в лес от стойбища. Шла-шла и потерялась, но не успела испугаться — нашла знакомую тропу. Воздух загустел, ветер стих, и налетела гроза. Небо раскололось, загремело и пролилось рекой. Спряталась Апрасинья под кедром, а под ним на теплой опавшей хвое распластался мокрый испуганный волчонок. Вылез, видно, из логова, пока матери не было, пошел гулять и потерялся. Рычал он, скалил зубы, когда девочка протянула к нему руки. Гром уже не гремел, он стонал, словно чудище, и огненные стрелы падали рядом, и волчонок, закрыв глаза, дрожа тельцем, уткнулся девочке в колени. Так они и сидели под кедром — то распахнув, то зажмурив крепко глаза. Девочка успокаивала волчонка тихим, дрожащим голоском, а он жалобно поскуливал.
«Идем, — позвала она, когда дождь утих. — Идем со мной, Серый!» Серый открыл глаза, лизнул девочке руку и задышал доверчиво и спокойно. Они оба не понимали, два детеныша, не понимали, что перешагнули границу, которую очерчивал Страх. Апрасинья бежала по тропе, обгоняя ее, мчался вымокший, но счастливый волчонок. Не подумала, однако, Апрасинья, что у стойбища ее подстерегает опасность. Собаки бросились на волчонка, едва успела закрыть его своим телом девочка. На остервенелый стоголосый лай прибежали мужики и палками разогнали собак. Волчий Глаз две недели лечил раны девочки, и две недели рядом с ней постанывал Серый — порвали собаки и его.
Вырос Серый в могучего волка и признавал только Апрасинью и веселую и ласковую суку Халю. Каждый год Халя приносила крупных свирепых щенят, которых шаман дарил нужным людям. Однажды шаман ударил Апрасинью. Серый, обнажив клыки, бросился на обидчика, и Волчий Глаз убил его.
Наверное, она долго не забудет шамана, наверное, долго он будет приходить в ее думы, тревожить, пугать и проклинать. Странно устроен мир: самый близкий по крови человек, Волчий Глаз, кормил ее, берег, холил, выращивал, как дорогую породистую собаку, с которой можно добыть не только дорогую пушнину, но и власть. Ведь Волчий Глаз создавал ее по образу своему, не по капризу, не по душе, а по холодному волчьему расчету. Создавал волчицей, по капле отцеживая из нее нежность, девичьи радости, ласку и томительное, неясное пробуждение женщины. Человек самый близкий по крови хотел ее убить. А самым дорогим, самым близким стал Мирон, человек других земель, мужчина другого племени, и Апрасинья, осторожно прикасаясь к плечу мужа, обрывает дыхание: как же она могла жить без него, как могла дышать, думать, двигаться без него? А если бы он не пришел в их земли, а если бы его не истоптал лось, что тогда? Нет, это боги послали их друг другу. Боги помогли ей остаться женщиной, боги остановили те темные силы, что пытались превратить ее в волчицу.
Да, да — много раз да, — она счастлива. Счастлива так, что и не верится тому — разве можно быть такой счастливой? У нее дом — большая теплая юрта. На ней красивая одежда и дорогие украшения, много посуды и пищи, у нее семья — братья и сестры Мирона, у нее есть отец, мудрый Картин. Он — глава рода, он уважаемый хранитель капища, непререкаемый истолкователь древних законов и обычаев. Как это мудро, что Максим отдал за нее выкуп. Только… Так ли мудра его непоколебимая вера в богов? Разве боги всегда могут понять пожар человеческих страстей? Жизнь богов — прямая, как копье, чистая и недосягаемая, как молния. Боги все выше и выше приподнимают небо, они хотят освободить людей от горячих желаний, хотят покоя, простоты и порядка. Но никогда боги не смогут совладать с мелким, рассыпанным злом, что ежедневно рождает Земля, рождает, не задумываясь, что есть Зло и Добро.
Нет, Апрасинья — дикая язычница, она не принимает ни богов, ни духов, не принимает никого, кроме Солнца, Ветра, Воды и Огня, — вот кому она поклоняется, вот кто правит миром.
Мирон потревожил ее, толкнул легонько в бок.
— У отца потухла трубка, принеси уголек.
Апрасинья склонилась перед Максимом. Тот протянул ей трубку и, довольный, несколько раз затянулся, причмокивая.
Ветер упал на земляную крышу лесовней юрты — вор-кял — и тихо заворочался. Лохматый он нынче, совсем холодный, дохлый. Пытался ветер просочиться сквозь бересту и осиновую дранку, но обессилел и притаился. Подкрался ползком к дымоходу, набрался сил и, как живой, одевшись в холодное дыхание, протек в чувал и отбросил золу.
И ожил золотом ветер в угольях.
Максим Картин смотрит в угасающий день, а тот, затихая, побурел за узеньким оконцем из бычьего пузыря. Повернул Максим лицо к верховьям, где густо в синеве наливался клюквенный закат. Тихо сказал старик любимому внуку Тимпею:
— Завтра пойдем прощаться с лесом.
Тимпей не может понять, как дедушка Максим угадывает время. Но он угадывает всегда: после его прощания лес оголяется. Тимпей проснулся рано, будто подкинуло его на постели. То закричал громко «блям-блям», ударил, словно в ботало, черный ворон-бородач на толстой жерди, усевшись над чувалом. За окном настоянная синь вот-вот рухнет в рассвет. Дед уже готов, он в праздничной, чистой одежде, в широком поясе с волчьими и медвежьими клыками.
— Кушай! — старик протянул Тимпею берестяной ватланчик с сурвякой. Нет ничего на свете вкуснее сурвяки, что готовит мать Апрасинья из рыбьей муки, брусники и рыбьего жира. — Кушай, и идем!
Разве можно заставить дедушку ждать? Тимпей проглотил сурвяку, а то, что оставалось, завернул в чистую тряпицу.
— Идем! — коротко приказал Максим.
В звонкости солнечного листопада льдистой чистотой пронзительно засинели озера. Журавлиные клинья щемящей тайной колыхнули высокое, недосягаемое небо. Оттуда, из прозрачных, голубовато-дымных полос, на охладевшую землю падает едва слышный клик.
Максим поднимает потемневшее лицо к небу, Великому Небу Торума, и глаза его наполняет тихая печаль.
— Евра… любовь моя! — шепчет старый Картин.
А журавли колыхающимся клином уходят на юг, к далекому и незнаемому, проходя сквозь падающие в горизонт негреющие лучи ослабевшего солнца. Весной и осенью великим кочевьем, неведомым касланием оживает мансийское небо. Оно оживает в крике и кликах, оно становится суматошным, по-детски шумным и матерински теплым.
Застыло, окоченело небо осени, низко припало к земле, словно хочет согреться в пламени леса. Только на востоке, в холодной пустынной дали, неожиданно тепло и ярко отсвечивают золотистые глубины разводий, прорубленные солнцем среди пепельного застывающего неба. Тихо ползут, расползаются туманы. Листья, дрожа, в пригоршнях своих держат дождины, и скатываются те с ветвей к теплому стволу березы по шершавой коре и тяжелеют в рубцах. И тогда под шорох ветра в огрузневших дождинах жемчужно мерцает грусть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: