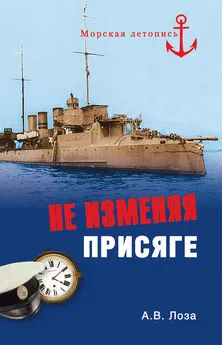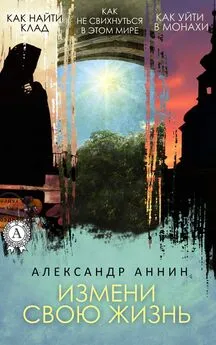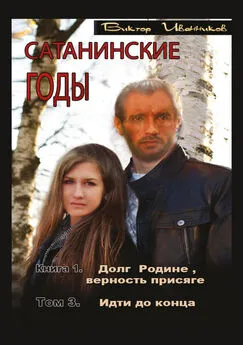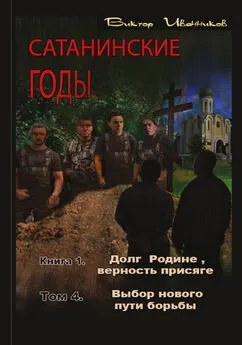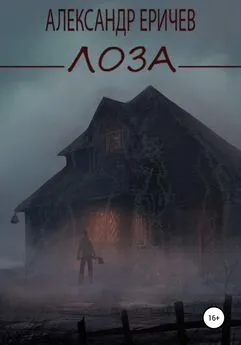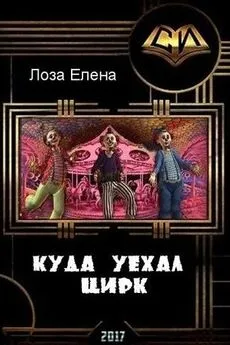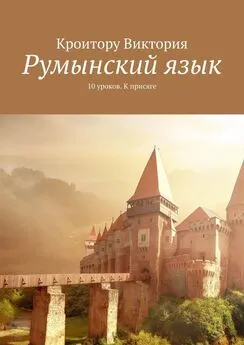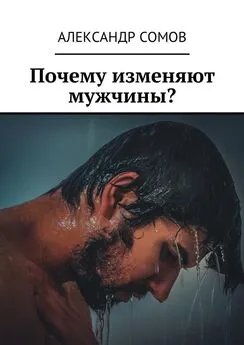Александр Лоза - Не изменяя присяге
- Название:Не изменяя присяге
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-633
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лоза - Не изменяя присяге краткое содержание
Книга морского офицера А. В. Лозы повествует о боевых действиях экипажей эскадренных миноносцев «Разящий» и «Расторопный» в войне с Германией в 1915–1916 годах на Балтике; о кровавом революционном выборе 1917 года; о трагической борьбе белых офицеров флота и, среди них, — судьбе лейтенанта Российского императорского флота Бруно Садовинского на Севере в период 1918–1920 годов.
В его судьбе, как в капле воды, отразились самые трагические периоды в истории страны — Первая мировая война и революционные перевороты, гибель офицеров и крушение Российского флота, создание белых флотилий и эскадр, жестокая Гражданская война…
Он не изменил присяге и принял мученическую смерть!
Не изменяя присяге - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Два офицера одного корабля, почти ровесники, оба выходцы из одного дворянского сословия, воспитанники одного Морского корпуса, но какие разные жизненные пути!
Вы скажете — судьба, а я скажу — воспитание и характер. Воспитание нравственности, твердости духа, здорового честолюбия, гордости за свое офицерское звание. Воспитание понятий офицерской чести и долга, любви к Родине.
Нравственный, свой внутренний закон был и у лейтенанта Бруно-Станислава Адольфовича Садовинского: честь, отвага, верность. В жизни всегда есть место выбору. В конце концов, каждый выбирает себе свой крест и несет его по жизни сам до конца.
Дальше, дорогой читатель, судить вам.
В декабре 1917 года зима разыгралась не на шутку. Корабли Балтийского флота, как и в прошлые годы, вмерзли в лед, но их базирование в Гельсингфорсе больше не было заслуженным отдыхом после боевых походов. В середине декабря под аршинными заголовками газеты разнесли весть, что 16 декабря 1917 года большевистским правительством заключено перемирие с Германией. В этот же день, на основании Декрета Совета народных комиссаров, по флоту было объявлено, что звание офицера отменяется, равно как и ношение орденов, крестов и прочих знаков отличия.
Российский военный флот терял свое лицо. В очередной раз офицеры флота были раздавлены морально. Подавляющее большинство русских солдат и матросов, находившихся в это время в Финляндии, мечтало лишь о том, чтобы поскорей убраться домой, в Россию.
Снег все шел и шел. Балтийский ветер, по-волчьи завывая, свивал снег в тугие кольца метели и мел поземку вдоль пустынных улиц Гельсингфорса. Под это тоскливое завывание снежной вьюги заканчивался кошмарный и кровавый 1917 год.
Глава 3. Петроград. 1918 год
Зимние дни: тусклые, длинные и однообразные — проходили серой чередой. На душе бывшего мичмана Российского Императорского флота Бруно Садовинского было холодно и пусто.
От тоски, разочарования, неприкаянности, без службы и без перспектив многие офицеры флота не выдерживали и начинали пить. Не крепко выпивать, что всегда было незазорно флотскому офицеру, а — пить. Пить горько, глуша тоску, страх перед будущим, боль за своих близких и родных, отчаяние безысходности и потерю всех ориентиров в жизни.
Многих угнетало еще и то, что на последнем общем собрании офицеров, в конце декабря прошлого года, в Мариинском дворце Гельсингфорса, из открытого протеста офицеров Балтийского флота ничего не вышло. Офицеры были неорганизованны, нерешительны и слабы. Как это ни горько звучит, но именно офицеры флота были мало сплочены между собой, и большинство из них финансово зависело от службы, ибо не имело других источников заработка.
Об этом тяжелейшем для офицеров периоде с болью свидетельствовал капитан 2-го ранга Г. К. Граф: «Что касается офицерства, то оно сильно изменилось к худшему. Далеко не все из него сохраняли свое достоинство. Несмотря на его тяжелое положение, на берегу сплошь и рядом происходили кутежи и скандалы. Были даже три случая, когда офицеры скрылись с солидными казенными суммами. Стало ясно, офицерство не может держаться и падает все ниже и ниже».
Большевистские указы лишили офицеров всех видов пенсий, в том числе и эмеритальных, состоявших из отчислений от жалованья в период службы, тем самым практически всех кадровых офицеров оставив без всяких средств к существованию.
Многие, прежде отлично служившие и воевавшие офицеры, поддались всепроникающему яду разложения. Слава Богу, это не коснулось Садовинского. Мичман сохранил достоинство и честь, но и его, оптимиста по натуре и просто психически крепкого человека, не обошла сильнейшая душевная депрессия. Мучаясь, переживая, перебирая в памяти все произошедшее, Бруно пытался понять и объяснить себе, что он и другие офицеры делали не так:
Да, офицеры, за редким исключением, не выступали на митингах и собраниях пред матросами. Большинство офицеров всегда стояло в стороне от всей этой митинговой говорильни, которая и ему самому претила до глубины души, — вспоминал Садовинский.
Конечно, офицеры понимали, что лозунги о «свободе, равенстве, братстве» дурманят головы нижним чинам, но, чтобы обосновать матросам лживость красивой социалистической утопии, у офицеров часто не хватало политических знаний. У самого Бруно, что греха таить, тоже не было большого политического опыта, и он совершенно не был подготовлен к роли митингового оратора.
Теперь-то Садовинский понимал: будь офицеры более сведущи в политике, обладай они большими политическими знаниями, то могли бы бороться с проникавшими в матросскую среду «агитаторами», и, возможно, после переворота они сумели бы удержать в своих руках матросов. Матросов, с которыми не раз, в войне с германцем, вместе смотрели в лицо смерти.
«Да, — соглашался с собой Бруно, — я не могу сказать, что плохо знал своих матросов. Я и многие другие офицеры, особенно на миноносцах, ежедневно работали рука об руку с матросами и хорошо знали их. Эти матросы — городские и деревенские парни из самых разных губерний огромной страны, они и есть частичка российского народа.
А, значит, мы — корабельные офицеры — куда ближе к народу, — считал для себя мичман Садовинский, — чем все остальные: политики, юристы, врачи, актеры и прочие, — не говоря уже о политиках-эмигрантах, прижившихся в Европе и многие годы отсутствовавших в стране.
Ведь это передо мной, — говорил себе Бруно, — ежегодно непрерывным потоком проходили матросы новобранцы — истинные представители народа. Я имел с ними дело всю свою офицерскую службу в течение нескольких лет, и я их ценил.
Да, я ценил и уважал толковых, сметливых, способных матросов своего корабля, а значит, я ценил и уважал в лице этих матросов свой народ.
Разве это не так? Но я не понимаю, — злился на себя Бруно, — где, когда, на каком этапе оборвалась моя связь с матросами, уменьшилось мое влияние на подчиненных, и когда началось на них влияние агитации социалистов-революционеров?»
Угнетала Садовинского и мысль о том, что не являлась ли роковой для всех событий, произошедших на флоте в феврале 1917 года, та нерешительность, с которой командование флота использовало в войне крупные линейные корабли. Мичман помнил, сколько об этом говорилось в среде флотских офицеров после смещения командующего флотом вице-адмирала Канина. Собственно, нерешительность командующего флотом в боевом применении крупных линейных кораблей против кайзеровского флота и послужила, в конечном итоге, причиной его отставки.
Именно отказ от перевода линейных кораблей на театр боевых действий привел к тому, что линкоры, оставаясь в тыловом Гельсингфорсе, подверглись интенсивной агитации по разложению команд различными революционными (только ли революционными?) подпольными организациями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: