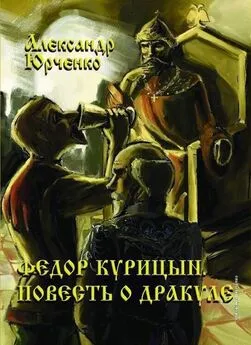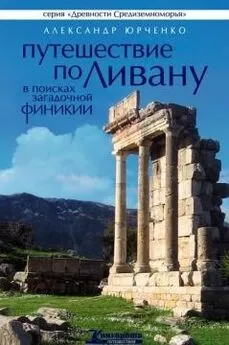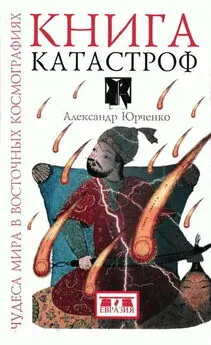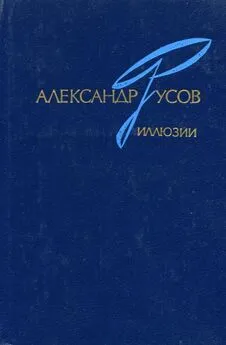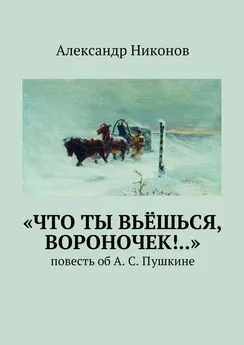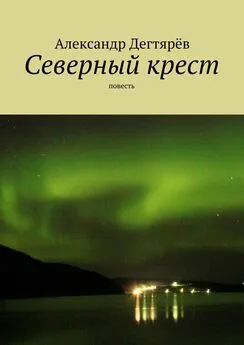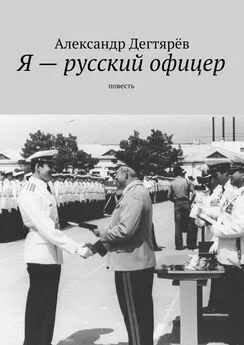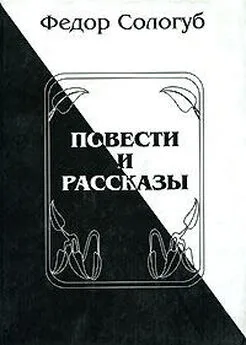Александр Юрченко - Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле
- Название:Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Оптимум»
- Год:2010
- Город:Киев
- ISBN:978-966-344-418-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Юрченко - Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле краткое содержание
В центре романа три героя – великий князь Иван III, его жена Софья и государев дьяк Фёдор Курицын. Иван III ведет политику усиления государственной власти, собирает в единое государство русские земли, волею судьбы оказавшиеся в составе Литвы. Софья, дочь Морейского деспота Фомы, властителя Пелопоннеса, племянница последнего византийского императора Константина, после захвата турками Константинополя бежит в Рим, где воспитывается при дворе папы Римского. Выйдя замуж за Ивана III, она оказывает большое влияние на великого князя. По её настоянию он приглашает итальянских архитекторов и перестраивает Кремль, принимает византийскую государственную символику, большое внимание уделяет придворному этикету. Фёдор Курицын, один из главных помощников князя по иностранным делам, вернувшись с посольством из Венгрии, оказывается в центре политических событий Московского княжества. Сторонник «сильной руки», он всецело поддерживает политику Великого князя по укреплению централизации государственной власти и ослаблению позиций боярства и духовенства. Д ля того, чтобы оправдать действия Ивана III, не всегда отвечающие нормам христианской морали, Курицын начинает писать повесть о Дракуле, где приводит примеры как жестокости, так и мудрости валашского господаря Влада Цепеша. Фёдор Курицын возглавляет кружок московских еретиков, стремящихся реформировать церковную жизнь, увлекается философией и астрологией, пишет трактат «Лаодикийское послание», в котором, опередив европейских гуманистов, отстаивает право человека на свободу воли.
Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Делатор заверил дьяка, что порядок, предложенный Иоанном Васильевичем, будет соблюдаться неукоснительно, после чего оба дипломата поспешили в Красные сени на отпускную встречу с Великим князем. Немецкий посол, видимо, по указанию своего короля, оставил главные вопросы напоследок. Это не удивило московитов, ибо прежний посол фон Поппель придерживался такой же стратегии.
– Не согласится ли Великий князь и государь всея Руси Иоанн славы ради послать подданных своих в помощь Максимилиану во Фландрию, Францию и иные земли, где коварные противники короля готовят против него предательство? – спросил Делатор.
– Мы будем говорить об этом, когда договор будет утверждён и скреплён печатями, – ответил Великий князь.
Тогда Делатор приступил к последнему поручению.
– Король Максимилиан, чтобы подтвердить своё желание жить с тобой, Великий князь, в дружестве и согласии, хочет свататься за твою дочь Елену. Король просит показать её мне, чтобы я мог рассказать ему, как она хороша, а также предлагает обсудить приданое, которое ты собираешься дать за неё.
– Передай мой ответ королю Максимилиану, – Иоанн Васильевич говорил, вкрадчиво, учтиво, но с видимым сожалением. – Меня радует желание моего брата, Максимилиана, породниться со мной. Но если он так хочет сделать это во имя дружбы нашей, зачем ему видеть дочь мою. Неужто дружество и согласие между нами зависит от красоты моей Елены? То же скажу о приданом. Неужели брат мой, Максимилиан, не верит мне, что назначу приданое по достоинству жениха и невесты, но уже после женитьбы? Более важно знать моему брату, Максимилиану, что отдать дочь замуж смогу я только при условии, что она не будет принуждаема переменить веру свою, что будет иметь у себя церковь греческую и священников.
Делатор слушал перевод речи Великого князя внимательно, боясь пропустить каждое слово.
– В подтверждение этого мой брат, Максимилиан, должен сделать уверительную запись, – закончил Иоанн Васильевич.
– Великий князь, – отвечал Делатор. – Я не имею полномочий делать какие-либо уверительные записи, но государю своему передам условия Великого князя и государя всея Руси.
На том порешили переговоры закончить. Отпуская Делатора, Иоанн Васильевич учинил его золотоносцем: пожаловал золотую цепь с крестом, атласную шубу с золотом на горностаях, а также серебряные шпоры с золотой окантовкой, дарённые в знак его рыцарского достоинства. Высокая награда Делатору, приехавшему в Москву с деловыми предложениями, оттеняла неудачный визит фон Поппеля, отличившегося хвастовством, вздорным и нелепым поведением.
Через три дня, 19 августа, немецкий посол отбыл на родину в сопровождении Юрия Траханиота и Василия Кулешина, которым надлежало продолжить переговоры с германским императорским домом. Но перед тем как отъехать, Делатор был принят женой Великого князя царевной Софьей и имел с ней дружескую беседу. Немецкий посол от имени короля подарил Софье серое сукно и экзотическую – для наших широт – птицу – попугая. От себя, зная предрасположенность царевны к чтению, передал ей книгу об испанской инквизиции «Речи посла цесарева», которую рекомендовал использовать в борьбе с ересью.
Но не прост оказался Делатор, ох как не прост! Ещё не успели лошади остыть при подъезде к Новгороду Великому, уже просит воротить назад. Вчитался Делатор в перевод «утвержденной грамоты» и обратился к Юрию Траханиоту:
– Не согласуется церемония подписания с тем, как принято в нашей державе.
– А как у вас принято?
Нахмурил грек Траханиот и без того угрюмоё лицо своё. Знал он, каких трудов стоило Курицыну изменить договор, предложенный Максимилианом, и принудить немцев, как говорят у московитов, плясать под нашу дудочку!
Теперь из-за этого дотошного немца всё может быть переиначено, и начинай всё сначала.
– Вы посылаете грамоту с печатью, а нужно без печати, – уточнил Делатор.
– Как так без печати? – удивился грек, привыкший к цареградским церемониям, которых, благодаря царевне Софьи, придерживался и его новый государь Иоанн Васильевич.
– А так, – Делатор встряхнул гривой каштановых волос, ниспадавших на плечи. – Король должен сначала прочитать, и если ему любо будет, подвесит свою печать, если не любо, нужно будет грамоту переделать.
Лицо Траханиота ещё больше посерьёзнело.
– Это всё? – поинтересовался он, предчувствуя, что магистр философии и филологии нашёл и другие зацепки.
– Нет, не всё, – Делатор усмехнулся только, почувствовав раздражительность грека. – Надо вписать в грамоту, что условия, которые мы оговорили, будут выполнять и дети государей наших. А также отметить, что ни один из властителей наших, без ведома другого, не может заключать мир с Казимиром.
Делать нечего. Решил Траханиот остановиться в Новгороде Великом у наместника Юрия Захарьевича, а тем временем послать в Москву подьячего Юшко. Путь туда и обратно занимал две недели, и для того, чтобы Делатор не скучал в ожидании гонца, Траханиот показал немцу новгородские храмы.
Подивился Делатор богатому убранству церквей:
– У нас в церквях не так богато, а у протестантов в храмах вообще пусто.
На предложение посетить архиепископа Новгородского Геннадия, попечением которого эти богатства преумножаются, ответил горячим согласием.
На подворье архиепископских палат кипела работа…
Главным делом своей жизни Геннадий считал борьбу с ересью, которая стремительно расходилась по всей Москве и за её околицами не откуда-нибудь, а из его вотчины – Новгорода Великого.
Начал архимандрит с книг, которыми располагали еретики, и к ужасу своему увидел, что читали они библейские книги, сочинения отцов церкви, афинского писателя Менандра, «Логику» неизвестного автора и много-много других не менее умных и важных произведений.
Смущало Геннадия и то, что сподвижники его не имели многого из тех книг. А, уступая еретикам в образованности, считал Владыка, нельзя вести с ними «речей о вере». И ещё заметил архимандрит, что значительная часть этих книг переведена на русский язык задолго до его времени и уже более ста лет имела хождение среди верующих.
И решил Владыка создать единый кодекс, в который бы вошли книги, не имевшие близости или даже намёка о близости к ереси.
Собрал Геннадий лучшие силы своей епархии. Учёного дьякона Герасима Поповку, брата его Дмитрия Герасимова, несколько лет учившегося в Ливонии, и даже католика попа Вениамина – пресвитера обители Святого Доминика, родом славянина, а верою латинянина.
Ходили по Руси Библии многих видов, отличавшихся друг от друга по содержанию. То были переводы греческие, иудейские и латинские. Геннадий задумал переписать Библию заново и сделать в ней исправления, где были бы упразднены все неувязки, недомолвки и искажения, дававшие повод к сомнению, размышлению и инакомыслию. Усадил за неё учёного дьяка Герасима Поповку и пресвитера Вениамина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: