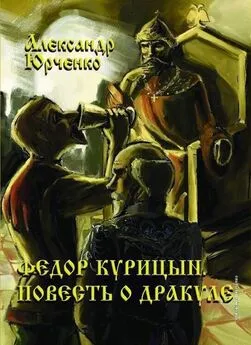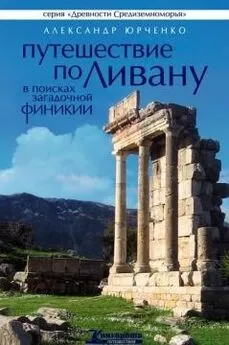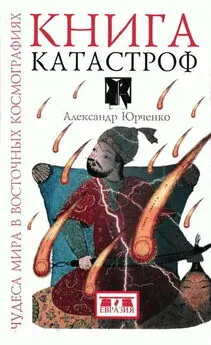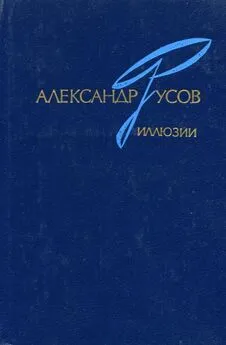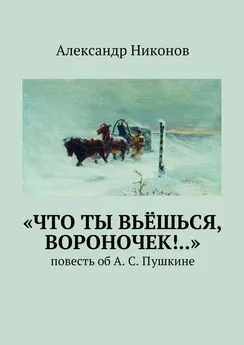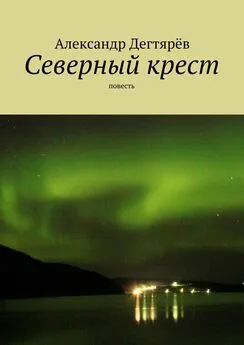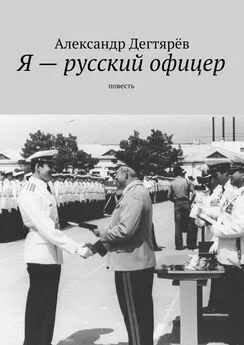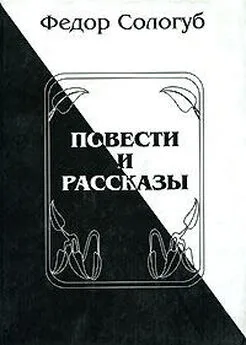Александр Юрченко - Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле
- Название:Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Оптимум»
- Год:2010
- Город:Киев
- ISBN:978-966-344-418-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Юрченко - Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле краткое содержание
В центре романа три героя – великий князь Иван III, его жена Софья и государев дьяк Фёдор Курицын. Иван III ведет политику усиления государственной власти, собирает в единое государство русские земли, волею судьбы оказавшиеся в составе Литвы. Софья, дочь Морейского деспота Фомы, властителя Пелопоннеса, племянница последнего византийского императора Константина, после захвата турками Константинополя бежит в Рим, где воспитывается при дворе папы Римского. Выйдя замуж за Ивана III, она оказывает большое влияние на великого князя. По её настоянию он приглашает итальянских архитекторов и перестраивает Кремль, принимает византийскую государственную символику, большое внимание уделяет придворному этикету. Фёдор Курицын, один из главных помощников князя по иностранным делам, вернувшись с посольством из Венгрии, оказывается в центре политических событий Московского княжества. Сторонник «сильной руки», он всецело поддерживает политику Великого князя по укреплению централизации государственной власти и ослаблению позиций боярства и духовенства. Д ля того, чтобы оправдать действия Ивана III, не всегда отвечающие нормам христианской морали, Курицын начинает писать повесть о Дракуле, где приводит примеры как жестокости, так и мудрости валашского господаря Влада Цепеша. Фёдор Курицын возглавляет кружок московских еретиков, стремящихся реформировать церковную жизнь, увлекается философией и астрологией, пишет трактат «Лаодикийское послание», в котором, опередив европейских гуманистов, отстаивает право человека на свободу воли.
Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Оставить Дмитрия – будет душа на том свете беспокоиться за Василия. Умна и своевольна красавица Елена Волошанка, не потерпит соперника.
«В последний раз возьму грех на душу, посажу в темницу и сына, и мать, – так думал поздней ночью государь Иоанн Васильевич. – А что подумают об этом другие, никому до этого дела нет, сам я волен в семье своей дела вершить».
Под утро приснился Иоанну Васильевичу дивный сон. Фёдор Курицын читал ему строки из повести о мунтьянском воеводе Владе по прозвищу Дракула.
– А хочешь, государь, – спрашивал Курицын, – о тебе повесть напишу: всю правду, как есть, расскажу.
– Нет нужды, Фёдор Васильевич, – отвечал Иоанн Васильевич, а у самого руки дрожали – много тайн знает Курицын.
– А я напишу, – настаивал дьяк, теребя серебряную бороду.
– А ты напиши, а ты напиши, – подначивал дьяка чей-то настойчивый голос.
Проснулся государь весь в поту. А с Курицыным как быть? – думал он. Как в глаза ему смотреть? Если есть у кого из слуг государевых совесть, так это у него, Фёдора Васильевича. Более того, сам Курицын есть совесть его. С ним делился сокровенным. Никому, даже духовнику, душу не поверял так, как дьяку Фёдору Курицыну. Смотрел в него как в зерцало – многие дела и поступки в беседах с ним поверял. Как теперь в глаза посмотрю? Будет он всю оставшуюся жизнь мне живым назиданием? Как вытерплю муку такую?
Попытался Иоанн Васильевич приподняться, на правую руку не смог опереться – не слушается правая рука. Свесил ноги, правая плетью стоит, под весом тела прогибается.
– Врача. Николу, ко мне! – закричал в испуге. – Позвать конюшего! Пусть лошадей готовит: по монастырям поедем на богомолье. Софье Фоминичне передайте, по полудню выезжаем в Волок Ламский.
– Не вечны мы под солнцем, пора бы о душе вспомнить, – шепнул сам себе. – Настал час молить Господа о здоровье своём, а если не даст мне его, просить Господа не оставлять без внимания наследника моего, Василия, как не оставлял в трудную годину меня, раба Божьего Иоанна, Великого князя и государя, Божьей милостью, всея Руси.
***
А два года спустя, получил духовник великокняжеский Митрофан письмо из Волока Ламского.
Государя нашего Великого князя всея Руси духовнику, господину архимандриту Андроникова монастыря Митрофану, грешный чернец Иосиф, нищий твой, господине, челом бьёт.
Когда виделся я, господине, с государем Великим князем наедине, говорили мы о церковных делах. Да после того стали говорить о новгородских еретиках, да молвил мне Великий князь так: «И я ведал новгородских еретиков, и ты меня прости в том, а митрополит и владыки простили меня». И я ему молвил: «Государь, мне тебя как прощать?». И он молвил: «Пожалуй, прости меня». И я ему молвил: «Если примешь меры ты к новым еретикам, то и за прежних Бог простит тебя». Да тут же стал бить челом Великому князю, чтобы обыскал еретиков в Новгороде Великом и иных городах и весях, да послал меня на это дело. И князь Великий молвил: «Хорошо. Так тому и быть, потому что и сам я знаю о ересях их». Да и сказал мне: «Знаю про ересь, которую держал протопоп Алексей, и которую держал Фёдор Курицын. А Иван, Максимов сын, и сноху мою Елену, и меня в ересь ввёл. Потому, пошлю во все города обыскать еретиков и искоренять».
Но какая польза в том, что митрополит и владыки простили Великого князя, если он обещанное не выполняет и никого бороться с ересью не посылает. В прощении том нет государю пользы, если он ревностно делами того не подкрепляет. А знаю, ведает сам государь каково злодейство еретическое, какую хулу на единородного сына Божия, на Господа нашего Иисуса Христа, на его пречистую матерь и на всех святых возводили. Во многих делах царских позабыл государь о просьбе моей обыскать еретиков, но ты, господине, не должен забывать о том, и напоминай государю так часто, как сможешь, чтобы на него не сошёл Божий гнев за то, да и на всю нашу землю. Потому что, господине, за государево согрешение Бог всю землю казнит. Два года прошло с того Велик дня, как мы с князем Великим о еретиках говорили, а так ничего он и не сделал. А ныне, господине, на тебе то дело лежит, потому что ты государю отец духовный. И ты, господине, постарайся вседушно государю докучать, оставив все другие дела, ибо дело Божье нужнее всех. Если, господине, ты об этом деле не попечёшься, с тебя Бог взыщет, а если попечёшься, от Господа Бога и Пречистые Богородицы милость примешь. Каково будет о том государево попечение, ты бы, господине, мне отписал, о том я тебе, господину моему, челом бью».
В книге «Посольских дел» по сношению с Великим княжеством Литовским за 1501 год есть такая запись: «В лето 7009 года (1501 год от Р.Х.) приезжал к Великому князю Иоанну от Великого князя Александра с посольством пан Станислав Петряшкевич, наместник Смоленский да писарь Федко Григорьев. И князь Великий Иоанн Васильевич посылал к ним с ответом казначея Дмитрия Володимерова да дьяков Фёдора Курицына и Андрея Майко».
Это последнее, что упоминалось о Курицыне в делах посольских.
Больше о советнике государевом, дьяке Фёдоре Васильевиче, никто слыхом не слыхивал…
Эпилог. Узник Соловецких островов
В лето 1518 года от Рождества Христова к Большому Заяцкому острову причаливал ялик, шедший с тремя монахами и двумя незнакомцами на борту от Свято – Преображенского Соловецкого монастыря.
На носу ялика сидел худощавый монах, указывающий дорогу среди многочисленных скал, закрывающих вход в уютную бухту, рулём правил ещё один, лица его было не видно за спинами двух молодых людей крепкого сложения в мирских одеждах. Им что-то громко кричал на ухо третий монах, пытающийся пересилить шум волн и стон ветра. Наконец, судно почти вплотную подошло к высокому берегу, окаймлённому огромными чёрными валунами, один из монахов ловко перепрыгнул на сушу и закрепил за деревянную сваю, брошенную ему верёвку. Монахи перекинули причальный мостик, скатили по нему большую деревянную бочку для воды, потом вынесли несколько мешков с продуктами, последними на берег сошли незнакомцы.
Берег бухты был усеян деревянными крестами, поставленными поморами в благодарность за удачу, что благополучно добрались сюда с материка. Большой Заяцкий остров был для них местом промежуточной остановки на пути между обеими сторонами Онежской губы, у входа в которую со стороны Белого моря располагались знаменитые Соловецкие острова. Саженях в пятистах от берега, на высоком пригорке, недоступном бушующему морю-океану, возвышался крепко сбитый деревянный сруб. К нему и направились прибывшие мореходы.
Подойдя к строению, монах-лоцман поколдовал над замком и открыл дверь. Яркий сноп света вырвал из полутемноты простую обстановку сруба: стол, лавку и кровать у стены. От единственного зарешёченного окна, расположенного высоко над кроватью, свет падал на стол, где соседствовали деревянная кружка, огарок свечи в бронзовом подсвечнике и библия в кожаном переплёте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: