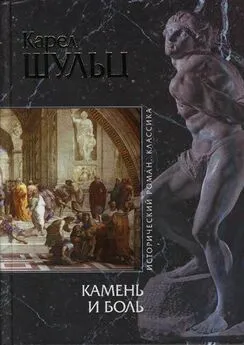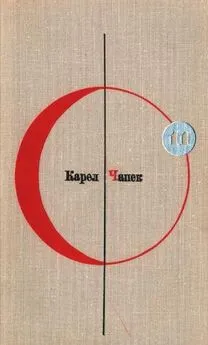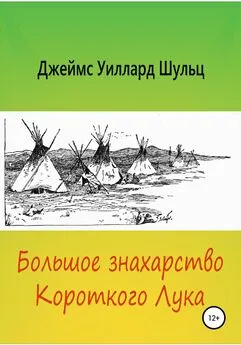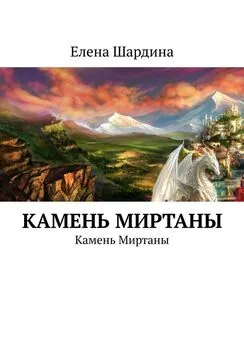Карел Шульц - Камень и боль
- Название:Камень и боль
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2007
- ISBN:5-699-20485-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карел Шульц - Камень и боль краткое содержание
Роман "Камень и боль" написан чешским писателем Карелом Шульцем (1899–1943) и посвящен жизни великого итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти, раннему периоду его творчества, творческому становлению художника.
Микеланджело Буонарроти — один из величайших людей Возрождения. Вот что писал современник о его рождении: "И обратил милосердно Всеблагой повелитель небес свои взоры на землю и увидел людей, тщетно подражающих величию природы, и самомнение их — еще более далекое от истины, чем потемки от света. И соизволил, спасая от подобных заблуждений, послать на землю гения, способного решительно во всех искусствах". Но Микеланджело суждено было появиться на свет в жестокий век. И неизвестно, от чего он испытывал большую боль. От мук творчества, когда под его резцом оживал камень, или от царивших вокруг него преступлений сильных мира сего, о которых он написал: "Когда царят позор и преступленье,/ Не чувствовать, не видеть — облегченье".
Карел Шульц — чешский писатель и поэт, оставивший в наследие читателям стихи, рассказы, либретто, произведения по мотивом фольклора и главное своё произведение — исторический роман "Камень и боль". Произведение состоит из двух частей: первая книга "В садах медицейских" была издана в 1942, вторая — "Папская месса" — в 1943, уже после смерти писателя. Роман остался неоконченным, но та работа, которую успел проделать Шульц представляет собой огромную ценность и интерес для всех, кто хочет узнать больше о жизни и творчестве Микеланджело Буонарроти.
Перевод с чешского Д. Горбова
Камень и боль - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дело идет не только о базилике св. Петра. Он продолжает обдумывать и чертить. Два ряда строений соединят крепость Николая Пятого с Бельведером, виллой, выстроенной Иннокентием Восьмым. Фасад здания будет представлять собой двойные лоджии, устроенные по образцу окружности большого стадия, а на заднем плане будет еще один полукруг, опирающийся на Бельведер и открывающийся прямо на апартаменты Юлия Второго, необъятная абсида храма, чей свод — небеса, храма под открытым небом, вечным небом римским. Но и этими зданиями дело не ограничивается. Новый ряд лоджий расширит апостольский дворец до самого Тибра…
Они сидели, ошеломленные, слушая молча, не шевелясь. Прелат Капицукки сдерживал свое шумное дыхание, и тучные руки его дрожали от плохо скрываемого волненья, Тиньосини расширенными глазами ловил каждое движенье Брамантовой руки, рисовавшей в воздухе аккомпанемент к некоторым словам, патриций Тринча сидел бледный, потому что сердце у него всегда сжималось перед грандиозным, — когда у других щеки горели от быстрого тока крови, у него они делались бледными, сердце отзывало кровь к себе, и он всегда становился лицом серый, как мертвец. Браманте говорил пылко, в пространство, ни на кого из них не глядя. Знал, что им — непонятно, что это — слишком сверхчеловеческое и огромное для их разумения, но продолжал объяснять, развивал свои мысли и планы под влиянием внезапной потребности ослепить, возбудить восторг, потешить свою гордость, вызвав благоговейно притихшее почтение, — вдруг почувствовал потребность в этом захватывающем триумфе и втайне следил, какое действие производят его слова. Сам папа Юлий Второй, восхищенный его планами, спустился с высоты престола, чтобы радостно обнять его и украсить золотой цепью. Наконец-то нашелся человек, постигший его необъятные замыслы и не боящийся поднять на свои плечи самые тяжелые бремена! Папа Юлий нетерпеливо разворачивал длинные свитки его чертежей и набросков, мысля о вечности. А те трое сидели неподвижно, с пылающими щеками и блестящими глазами, он потряс их своими объяснениями, они жадно глотают каждое его слово, у них дух захватывает от огромности плана, формы которого он выгнал в жесточайшей борьбе, какую ему когда-либо приходилось вести, а ведь он не юноша, а старик, шестидесятилетний старик. Он снова полюбовался на их глубокое, немое изумление, и на увядших губах его промелькнула гордая улыбка. Скоро вот так же безмолвно, изумленно будут сидеть вся кардинальская коллегия, римские патриции и дворянство, завистливые и сварливые корпорации художников, высокопоставленные представители и доверенные иностранных государей — все, кто разнесет потом его славу по всему миру. Он глядел через высокое окно на разлившиеся по холмам каменные волны Рима, отделяющиеся в жгучем солнечном зное резкой белизной своей от коричневой, илистой поверхности Тибра. Вечный город, драгоценный камень божий, весь в золоте… И он закончил, полузажмурив глаза:
— А если понадобится, возьму свод Пантеона и подниму его вверх, на арки Константиновой базилики.
Воцарилась тишина.
Браманте встал и прошелся взад и вперед по комнате. В открытые окна лились волны нестерпимого жара, воздух имел запах серы и привкус свинца. Снова улыбка искривила губы архитектора, но это уже не была улыбка высокомерия и самодовольства. Он остановился перед столом, за которым они по-прежнему сидели молча, следя глазами за его хожденьем. Первым пришел в себя патриций Тринча. "Каким этот старик умеет быть жестоким…" — подумал он, глядя на его улыбку, полную осторожности и лукавства. Тринча хорошо знал такие улыбки и всякий раз при виде их невольно хватался за рукоять кинжала. Однажды он, возвращаясь из Сан-Джиминьяно, попал в руки разбойников, вместе с двумя приставшими к нему в пути крестьянами, понадеявшимися на его меч и свиту. Но свита сбилась с дороги, и он, крепко привязанный к дереву, смотрел на допрос с пристрастием, которому подвергали одного из крестьян, обессилевшего от пыток. Над крестьянином стоял разбойник, обещая ему жизнь и свободу, если он введет их тайком в деревню и спрячет у себя до ночи, когда можно будет приступить к поджогам и ограблению самых богатых дворов. Пытаемому и жаждущему пить после страшных порций соли, всыпанных ему в глотку и раскрытые раны, они обещали масла и воды, исподтишка друг другу улыбаясь. А другой раз на пыльной дороге в Орвието он увидал змею, обвившуюся вокруг большого хомяка, тщетно пытающегося освободиться и отчаянно кусающего пустое пространство. Блестящее тело пресмыкающегося медленно вытягивалось, свертывалось, извивалось в пыли и шипело от довольства и предвкушения. Это была не атака, а жестокая, мучительная игра, с наслаждением растягиваемая, глядя на которую становилось не по себе. Змеиное тело изогнулось дугой, отпрянуло от перепуганной жертвы, опять медленно подползло ближе, волочась между холмиками земли. Это было еще не прикосновение смерти, но его упоенно и сладострастно замедленное предчувствие — не только прямая черта флейтового, трепещущего змеиного тела, но улыбка, ядовито-лукавая и в то же время любовно-взволнованная, улыбка смерти, кинутая вот здесь на глину почвы, улыбка спиральная, волны которой все время менялись, — узкая змеиная головка и трехгранная улыбка, изящно вырезанная.
Тринча невольно слегка отодвинулся в кресле. Классически прекрасное лицо Браманте вдруг изменилось, некоторые черты исчезли, другие резко выступили вперед, он поднялся величественно, взявшись обеими руками за доску стола, и перестал говорить в пространство, а обратился прямо к ним.
И в сознании да Тринча убийца из Сан-Джиминьяно и змея снова заслонили человека, украшенного папской золотой цепью и награжденного титулом главного папского строителя храмовых зданий.
— Для меня главное — очистить здесь атмосферу… — слышался сухой, невозмутимый голос Браманте, совершенно непохожий на тот, которым он говорил о своих планах. — Вы поможете мне, а я помогу вам. Ваша мысль — хорошая, она вполне оправдает себя в смысле дохода, мне не надо, чтоб вы делились со мной, я не участвую как вкладчик и не буду брать прибыль, — вместо денег буду давать только советы. Для вас, конечно, не будет иметь значения, если некоторым людям придется исчезнуть как можно скорей из Рима, — а если они не обратят внимания на мои предостережения, я найду способ устранить их так, что их отсутствие никто и не заметит. Первый из них и самый важный — это Сангалло, но он уже не опасен. Его святость, восхищенная моим творчеством, решительно отклонил все его планы, так что с этим флорентийцем, слишком много о себе воображающим и детски наивно ждущим папского зова, теперь навсегда покончено, — удар настолько сокрушительный, что он от него никогда не оправится. Для Рима, для папы, для искусства, для всего — он умер. Но мертвецы распространяют зловоние. Надо удалить все остатки…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: