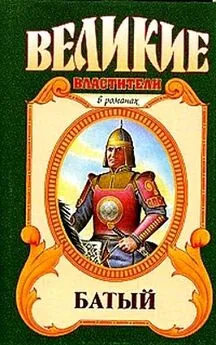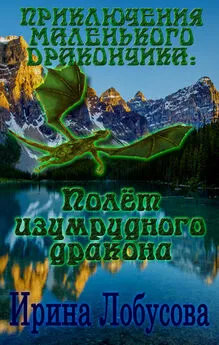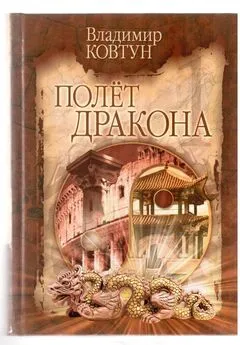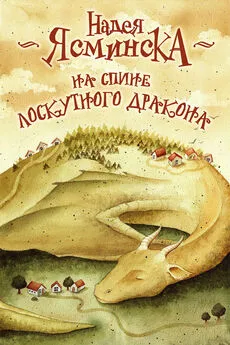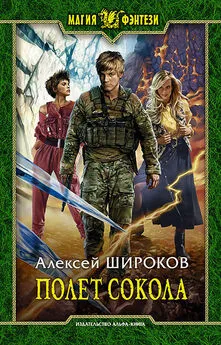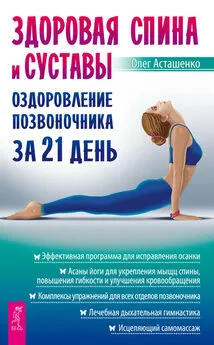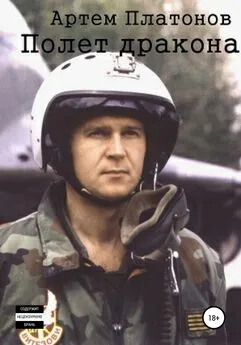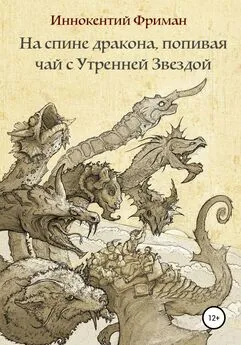Олег Широкий - Полет на спине дракона
- Название:Полет на спине дракона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель, Хранитель
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-17-033088-x, 5-271-12626-9, 5-9762-0074-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Широкий - Полет на спине дракона краткое содержание
О жизни и судьбе одного из самых известных правителей мировой истории, предводителе общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу, хане Золотой Орды Батые (1208—1255) рассказывает роман современного писателя Олега Широкого.
Полет на спине дракона - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Зачем ты мне всё это рассказываешь? — тихо, как заклинание, шептала Ева, что-то в интонациях мужа её пугало слишком сильно. — Господь давно не требует жертв.
— Сейчас не требует, потом затребует. Пути Господни неисповедимы, разве нет? — горько усмехнулся Олег, спать уже меньше хотелось. — Но не в том забота, а в другом. Времена Исуса Навина возвращаются, а кто сказал, что наша Рязань менее грешный город, чем Иерихон? Ведь наши князья травят на пирах своих родичей? Мало тебе? Или ты тоже, подобно здешним инокам, уверена, что всесильный Бог помогает именно нашей Рязани в ущерб остальному миру, который, скачи на коне, и за год не перескачешь?
— О чём ты? И вовсе я так не считаю...
— Латыны тоже числят Библию священной, и ромеи, а у татар всякие священники есть, средь них и те, кто веруют во Христа. Ну, не по-нашему веруют, по-несториански, так и что с того? У них там есть совсем новый Бог, он уже на Небе, а зовут его Чингис. Монголы говорят — каждый идёт к Богу своим путём, и если их попы не верят, что Чингис — Божий Сын, то уж точно верят, что Чингисово войско — Божья кара.
— О... что ты болтаешь?..
— Исус Навин тоже не был Сыном Божиим, только его мечом... Противиться Божьей каре — ересь. Будут нас сечь, как траву, и наши епископы назовут борьбу с татарами грехом. Они это делают во всех странах, куда они уже пришли, а хан им за это даёт охранные пайдзы... И монастырей они тоже нигде не разоряют.
— Чего же ты хочешь?
Распалясь от собственной речи, Олег и вовсе о сне забыл. Его глаза воспалённо вспыхнули, как у Люцифера — «носящего свет». Ведь свет — это собственность не только Бога?
— Тут такое дело... Если мы будем сопротивляться Божьей воле слишком отчаянно, но не победоносно, наша рязанская земля превратится в этот самый херем... И мой отец всё делает для того, чтоб это было так. Теперь он хочет «разметать их в пух», глупец... Его-то не разметут, казны на бегство хватит, а вот мы... Пойми, это не набег за холопами, это — МИССИЯ, как говорят латыны. Они не остановятся, и не нам их остановить. Так же, как не мог остановиться Исус Навин.
— Откуда ты всё это знаешь? — сквозь страх, как зелёный побег из-под бревна, пробивалась гордость за мужа.
— Слушал купцов, слушал мудрецов....
— Но если мы, как ты говоришь, хе... херем... Значит, гибель всему... Но я не хочу, я...
Высказав всё своей Еве, Олег уже убедился в правильности задумки.
Посольство двигается подобно снежному кому, только ком нарастает, а оно, оставляя за собой след из ценных даров, постепенно худеет. Только самые важные из посольств доползают до самого джихангира. Всё верно: у кого мощи не хватило, не стоят его времени.
Обычай этот держался за неимением других способов отличить важное от неважного. Тот, кто ехал без даров, должен был долго объяснять ценность своей персоны. А уж там аталики и ближние нойоны, — если посчастливилось докарабкаться столь высоко, — решали: стоит ли это всё высочайшего внимания. Иначе донимали бы хана все кому не лень.
Восходил такой порядок не к Ясе, а ко временам стародавним, когда знать имела над ханом больше власти, чем писаные законы.
Олег (как-никак князь) был не настолько беден, чтобы не обвеситься дарами. Если бы за ним не следовали богатые сани со всякой приятной всячиной, его путь был бы более тернист. Главное, чтобы его не остановили свои, а уж с чужими он сам разберётся.
Затея, что и говорить, была дерзкая. По земле, где рыщут вражие конные разъезды, трёт полозьями снег беспечный обоз с небольшой охраной. Весёлые гридни Олега ещё и за тем приглядывают, чтобы никто из обоза не сбежал, не донёс о миролюбии сыночка герою-отцу и страшную тайну его не раскрыл.
А тайна заключалась в том, что никак он не был посольством от Юрия Игоревича... Что настоящее — какого ожидал с надеждой Бату — так и не появится, ибо отклонили гордые рязанцы все монгольские требования. Ате послы, вкупе с шаманкой джурдженьской, которые эти требования сообщили, ещё не выехали из Рязани, чтобы отвезти Батыю роковые слова: «Когда нас не будет, всё ваше будет».
Об этой грустной правде Олег рассчитывал поведать лично Батыю — никому больше, а уж там как кривая вывезет. А ныне кто узнает, что он не то самое посольство, которое с нетерпением ожидают?
Пока не отъехали, он и своим кметям [103] Кметь — дружинник, конный воин; слово имело и значение «лучший» (лепший) воин.
не говорил, куда и зачем они едут, когда все купцы по норам попрятались.
Добравшись до Вороны-реки, он столкнулся с дозорной сотней Гуюка. Как многие на Руси зная тюркский язык, князь растолковал угрюмому филину-джангуну, что поступит неправильно, если ограбит его. Не сегодня-завтра Великий Хан войдёт в Рязань, и тогда всё равно узнает о его, сотниковом, самоуправстве, даже если дотошный сотник их тут всех из жадности посечёт в капусту. На этот случай там, в Рязани, особые люди припасены, а что до этих вот роскошных соболей, то они благородному Батыеву сотнику от рязанского княжича Феодора — добровольный дар.
Рязань ещё можно было спасти, если бы вместо воинов Гуюка Олег столкнулся с удальцами Делая. Но, увы, такое, похоже, не предусматривалось в книге судеб.
Чудеса начались тут же. Князь забыл о своём достоинстве, когда этот дотошный разбойник отказался от дара, но ларец открывался просто...
Оказывается, джангун решил проявить разумное рвение и предъявить этих, возможно полезных, людей не Бату, а... своему повелителю.
Двигала им не любовь, а житейская мудрость. Слух о посольстве непременно дойдёт до Гуюковых ушей, а коли так — не вздёрнёт ли его любимый господин за то, что упустил удачу из рук?
А тех же соболей, с благословения Неба, от самого Гуюка получить — оно как-то полезнее... для некрепкой и единственной спины.
Гуюк. Под Пронском. 1237 год
— Великий тайджи, к вам посол, — выдохнувший это, распластался на бухарском ковре. Руки вытянуты вперёд, скрюченные пальцы подрагивают. Казалось, от возвышения, на котором восседал царевич, дует сметающий ветер, и пришедший, пытаясь вцепиться в ковёр ногтями, еле держится, чтобы его не сдуло к порогу.
Такое испытывали люди в юрте Гуюка...
Титул «великий» не прилагался просто к члену царского рода — тайджи. Только к ханам — чингисидам. Бату так стали называть после смерти Джучи, когда он получил в наследство часть его улуса. У Гуюка не было своих уделов: его отец Угэдэй был ещё жив. Это было одним из многочисленных поводов зависти к Бату. Подчинённые тем не менее называли Гуюка «великим», но это было не просто потакание его властолюбию.
Правила — как кого нужно называть — придумал и утвердил великий дед. А значит, всегда можно было вдоволь поиздеваться над подчинёнными, если настроение подходящее. Сейчас было как раз такое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: