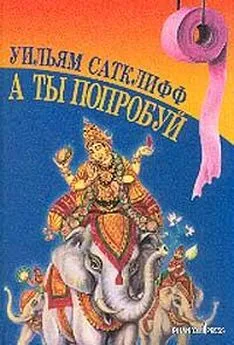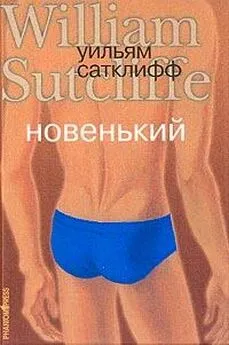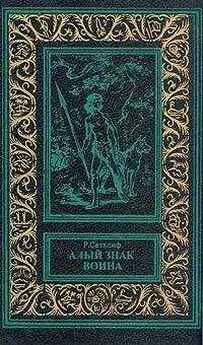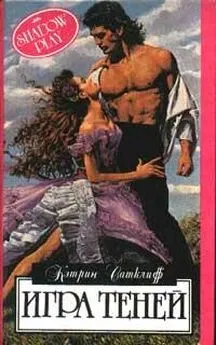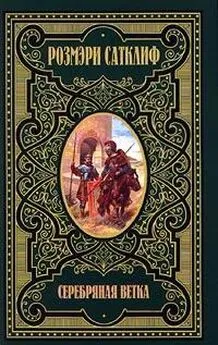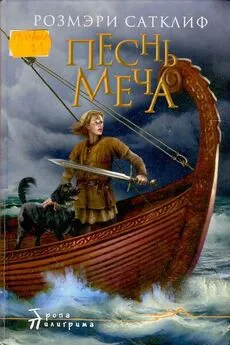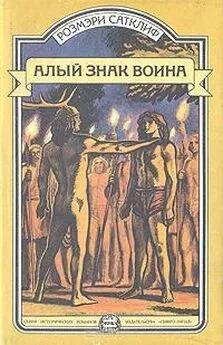Розмэри Сатклифф - Меч на закате
- Название:Меч на закате
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Розмэри Сатклифф - Меч на закате краткое содержание
Подобно тому, как сага о Карле Великом и его паладинах — это Тема Франции, Легенда об Артуре на протяжении почти четырнадцати столетий была и остается Темой Британии. Поначалу предание, затем — героическая повесть, которая вбирала в себя по пути новые детали, новые красоты и радужные романтические краски, пока не расцвела пышным цветом у сэра Томаса Мэлори.
Но в последние годы историки и антропологи все чаще и чаще склоняются к мысли, что Тема Британии — это и в самом деле «материя, а не пустая болтовня». Что за всем собравшимся вокруг нее божественным туманом языческого, раннехристианского и средневекового великолепия стоит одинокая фигура одного великого человека. Не было рыцаря в сверкающих доспехах, не было Круглого стола, не было многобашенного Камелота; но был римско-британский военачальник, которому, когда нахлынула варварская тьма, показалось, что последние угасающие огоньки цивилизации стоят того, чтобы за них бороться.
«Меч на закате» — это попытка из осколков известных фактов, из домыслов, предположений и чистых догадок воссоздать человека, каким мог бы быть этот военачальник, и историю его долгой борьбы.
Меч на закате - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава первая. Меч
Теперь, когда луна близка к полнолунию, ветка яблони отбрасывает ночную тень сквозь высокое окно на стену рядом с моей кроватью. Здесь много яблонь, и при дневном свете половина из них — не более чем дички; но тень, что расплывается и дрожит на моей стене от налетевшего ночного ветерка, а потом снова становится четкой, — это тень той Ветви, о которой поют певцы, Ветви с девятью серебряными яблоками, звон которых может открыть дорогу в Страну Живых.
Когда луна поднимается выше, тень исчезает. Белое сияние струйками стекает по стене и расплывается по покрывалу, а потом наконец касается меча, лежащего рядом со мной, — они положили его здесь потому, что, как они говорят, я беспокоился, если его не было у меня под рукой, — и глубоко-глубоко в темном сердце огромного аметиста Максима, вделанного в головку эфеса, рождается вспышка, едва заметная искра сверкающего фиолетового света. Потом лунный свет уходит, и узкая келья становится серой, как паутина, и звезда в сердце аметиста засыпает снова; засыпает… Я протягиваю руку в серую пустоту и касаюсь знакомой рукояти, которая в стольких боях согревалась от моей ладони; и ощущение жизни есть в ней, и ощущение смерти…
Я не могу спать в эти ночи из-за раны, пылающей огнем у меня в паху и в животе. Если бы я позволил, братья дали бы мне сонный напиток, который был бы сильнее, чем этот огонь; но мне не нужен сон, даруемый маковым отваром и мандрагорой и оставляющий в мозгу темный осадок. Я довольствуюсь ожиданием иного сна. А пока мне о стольком нужно подумать, столько вспомнить…
Вспомнить… вспомнить сквозь сорок лет тот раз, когда я впервые держал в руке эту искру фиолетового света, вызванную к жизни не холодной белизной луны, но мягким желтым сиянием свечей в рабочей комнате Амброзия в ту ночь, когда он подарил мне мой меч и мою свободу.
Я сидел в ногах кровати и скоблил лицо пемзой, что проделывал обычно два раза в день. Во время кампаний я, как правило, отпускал бороду и коротко подстригал ее, но на зимних квартирах всегда старался держать подбородок гладким, на римский манер. Иногда это означало истязание гусиным жиром и бритвой, после которого я оставался ободранным и исцарапанным и благодарил огромное количество богов за то, что, по меньшей мере, не был — подобно Амброзию или старому Аквиле, моему другу и наставнику во всем, что касалось конницы, — чернобородым. Но при везении все еще можно было достать пемзу, потому что нужно было нечто большее, чем франки или Морские Волки, чтобы полностью перекрыть торговые пути и запереть купцов внутри их собственных границ. Всего несколько дней назад в Вента Белгарум пришел один из торговцев с грузом пемзы и сушеного винограда и несколькими амфорами слабого бурдигальского вина, нагруженными попарно на спины вьючных пони; и мне удалось купить одну амфору и кусок пемзы размером почти с мой кулак — такого куска мне должно было хватить на всю эту зиму, а может быть, и на следующую тоже.
Закончив торг, мы выпили по кубку вина и поговорили, или, скорее, говорил он, а я слушал. Мне всегда доставляло удовольствие слушать, как люди рассказывают о своих странствиях. Иногда разговоры путешественников лучше слушать при свете костра и приправлять их для остроты большим количеством соли; но рассказы этого человека были дневного сорта, и если им и нужна была соль, то совсем немного. Он говорил о радостях некоего дома на улице сандальщиков в Римини, об ужасах морской болезни и о вкусе выращенных на молоке улиток, о мимолетных встречах и неприятных случайностях на дороге, переполненной смехом, как кубок переполняется вином, о запахе и цвете роз Пестума, когда-то продававшихся на римских цветочных рынках (он был, по-своему, чем-то вроде поэта). Он говорил о расстояниях от одного места до другого и о самых лучших тавернах, которые еще можно было найти на дороге. Он говорил — и меня это интересовало больше, чем все остальное, — о готах из Южной Галлии, о рослых, темной масти лошадях, которых они выращивали, и о большой летней конской ярмарке в Нарбо Мартиусе. Я и раньше слышал о лошадях из Септимании, но никогда — от человека, который видел их своими глазами и имел возможность составить собственное мнение об их достоинствах.
Поэтому я задавал множество вопросов и приберегал на потом его ответы, чтобы поразмыслить о них вместе с некоторыми другими вещами, которые уже давно жили в моем сердце.
Я много думал об этих вещах за последние несколько дней, и теперь, когда я сидел, уже наполовину раздетый для сна, и скоблил подбородок куском пемзы, я вдруг понял, что пришло время покончить с раздумьями.
Почему именно в ту ночь, я не знаю; время было выбрано не слишком-то удачно; Амброзий провел весь день на совете, час был поздний, и он мог уже даже лечь спать, но я внезапно почувствовал, что должен пойти к нему этой ночью. Я наклонился вбок, вглядываясь в отполированную выпуклую поверхность боевого шлема, висящего в головах кровати, — единственного зеркала, которое у меня было, — и ощупывая щеки и подбородок в поисках волосков, которые еще нужно было соскоблить; и мое лицо посмотрело на меня в ответ, искаженное изгибом металла, но достаточно ясно различимое в свете оплывающих свечей, широкое, как у юта, и загорелое под шапкой волос цвета луга, выбеленного солнцем в пору сенокоса. Думаю, я унаследовал все это от матери, потому что во мне несомненно не было ничего от смуглого, узкокостого Амброзия; и, соответственно, от Уты, его брата и моего отца, который, по слухам, был похож на него. Никто никогда не говорил мне, какой была моя мать; возможно, никто не заметил этого, не считая Уты, который зачал меня с ней под кустом боярышника, просто так, от хорошего настроения после удачной охоты. Возможно, даже он заметил немногое.
Пемза сделала свое дело, и я, отложив ее в сторону, поднялся на ноги, подхватил лежавший на кровати тяжелый плащ и набросил его поверх тонкой нижней туники. Потом я крикнул своему оруженосцу, шаги которого все еще слышал в соседней комнате, что этой ночью он мне больше не понадобится, и вышел на галерею в сопровождении своего любимого пса Кабаля. Старый дворец коменданта погрузился в тишину, как бывает в военном лагере около полуночи, когда даже лошади перестают беспокойно переступать у коновязей. Только разбросанные шафрановые квадраты окон отмечали те места, где не спал кто-то из дозорных. На галерее немногие еще не погашенные фонари раскачивались взад-вперед на слабом холодном ветру, рассыпая по плиткам пола быстро мелькающие пятна света и тени. Через низенькую стенку внутрь галереи налетел снег, но ему не суждено было пролежать здесь долго: в воздухе уже чувствовалась холодная сырость оттепели. Мороз лизал мои голые икры и пощипывал свежевыскобленный подбородок; но на пороге Амброзиевых покоев, где стражники убрали копья, чтобы пропустить меня в переднюю, меня встретило слабое тепло. Во внутренней комнате горели на углях в жаровне яблоневые поленья, и их сладковатый аромат наполнял все помещение. Амброзий, Верховный король, сидел рядом с жаровней в своем большом кресле на скрещенных ножках, а в тенях у дальней двери, ведущей в спальную каморку, стоял Куно, его оруженосец. Я на мгновение задержался на пороге, и мне показалось, что я вижу своего родича беспристрастными глазами чужака: смуглый, узкий в кости человек со спокойным и очень решительным лицом; человек, который в любой толпе будет окутан одиночеством почти так же ощутимо, как наброшенной на плечи пурпурной мантией. Я всегда чувствовал в нем это одиночество, но никогда так остро, как в тот момент; и я благодарил судьбу за то, что никогда не стану Верховным королем. Не для меня эта нестерпимая вершина над линией снегов. И однако теперь я думаю, что титул не имел к этому почти никакого отношения, и дело было в самом человеке, потому что это его одиночество я знал в нем всегда, а коронован он был только три дня назад.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: