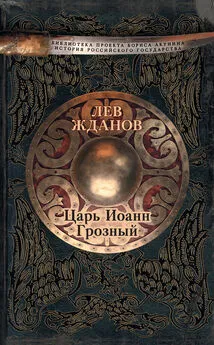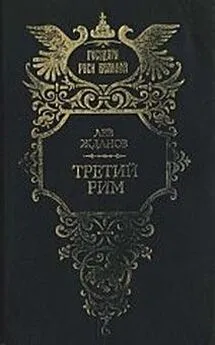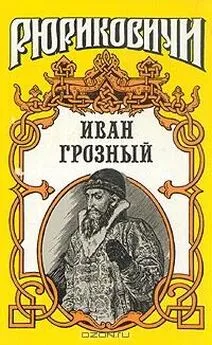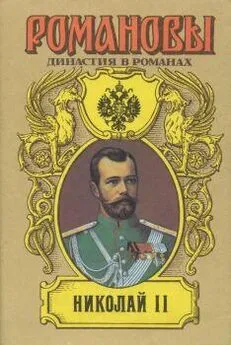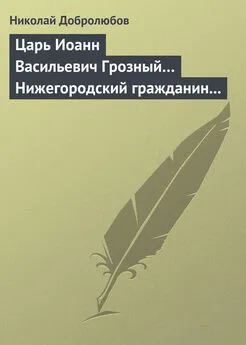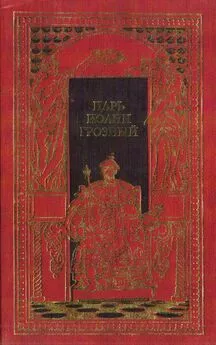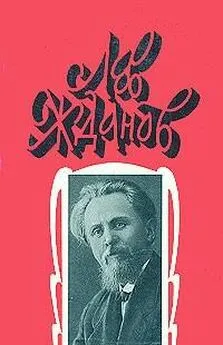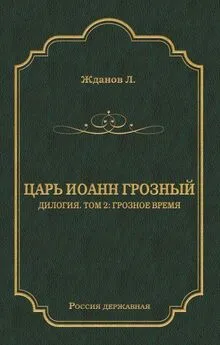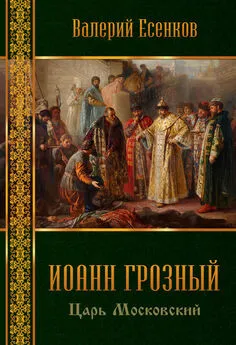Лев Жданов - Царь Иоанн Грозный
- Название:Царь Иоанн Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-099063-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Жданов - Царь Иоанн Грозный краткое содержание
Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.
Представляем роман широко известного до революции беллетриста Льва Жданова, завоевавшего признание читателя своими историческими изысканиями, облеченными в занимательные и драматичные повествования. Его Иван IV мог остаться в веках как самый просвещенный и благочестивый правитель России, но жизнь в постоянной борьбе за власть среди интриг и кровавого насилия преподнесла венценосному ученику безжалостный урок – царю не позволено быть милосердным. И Русь получила иного самодержца, которого современники с ужасом называли Иван Мучитель, а потомки – Грозный.
Царь Иоанн Грозный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Э-эх… Не очень-то оно гоже, государь. Про опалу, про ссылку у нас речь шла… А ты вот как! Молод, правда, горяч больно… Не то ведь мы толковали, вспомни!
– Все я помню, бояре: кто я, кто вы! За советы спасибо. За помощь – вдвое. А уж как мне с врагом моим быть? – на то моя государская воля. Так я думаю. – И уж не слушая, что стали толковать между собой смущенные бояре, он опять обратился к доезжачему: – Дай… Вынь-ка нож… Покажи скорей!
И, схватив обнаженный нож, он пальцем провел по влажному от крови лезвию. Палец окрасился…
«Крови, ишь, понюхал! Зубы оскалил. Ой, не к добру!» – подумал про себя князь Курбский Михаил; но уж ничего не сказал. Промолчали и другие. Только пасмурные разошлись от царя.
Невидимый хранитель
Года 7052–7054 (1544–1546)
Немало дней спустя после первой своей удачи, после такой дивной победы над сильнейшим боярином изо всей густой, многоголовой толпы князей и вельмож, толпившихся вокруг трона, юный государь словно опьянелый был.
Он весь переродился. Походка, голос, взгляд сразу изменились.
– Совсем покойный Василь Иваныч осударь! – говорили старые слуги, помнившие отца Иванова.
А сам Иван только и твердил:
– Господь предал в руки мои врага моего, обидчика и хулителя злейшего… Господь за меня!
От радостного экстаза, как раньше, бывало, от ужаса и обид, даже припадок с мальчиком сделался. Но уж не лежал он беспомощным, как в былые, печальные свои дни. Кроме бабки, княгини Анны Глинской, ее врач, итальянец, собственный врач Ивана и еще несколько лучших врачей, какие были у Мстиславского, да у Морозова, да у Курбских, – все сошлись к кроватке больного. Бояре главнейшие столпились в соседней горнице и спрашивали у каждого выходящего:
– Как государю? Да лучше ли?
Припадок скоро прошел. Разошлись бояре, но тучи осенней мрачней.
С этого дня полную волю страстям и желаньям своим дал необузданный по природе мальчик, вконец исковерканный за пять долгих лет боярского самовластия, наставшего после отравления Елены. Хотя и теперь не унялися нисколько гордые, надменные представители первых вельможных родов, но приходилось им считаться с волей, даже с каждой прихотью юного царя, если еще не с сознательными решениями, не с царственным разумом повелителя всея Руси. Правда, настоящую власть присвоили себе Глинские, Бельские и Сабуровы со Мстиславским во главе, как с одним из старейших. Но уж если Ивану забрело что в голову, волей-неволей приходилось исполнять. А приходило ему на ум все по-детски – незрелое и жестокое вдобавок. Никто не дивился, что на другой же день после смерти Андрея Шуйского Иван послал гонцов в Кострому: вернуть Федю Воронцова, друга своего, с отцом его.
– Чтоб ни спал, ни ел гонец, пока их не увидит. Пусть двадцать, тридцать коней загонит… Но чтоб через десять дён Федя здесь у меня был!
И такое почти невозможное приказание было выполнено. Но вот задумал Иван выместить старые обиды, свои и Федины, еще раньше нанесенные им сверстниками и товарищами по играм, «ребятами голоусыми», рындами и другими, что «наверху» в царских хоромах живут.
Княжич Мишенька Богданович Трубецкой да княжич Дорогобужский Иван, первый – из литовских, Ольгердович, второй – из северских владетельных князей, в споре детском, давно как-то, своей знатностью похвалялись, в ловкости и удаче превзошли Ивана. Не забыл этого злопамятный мальчик. Теперь он их велел в тюрьму отвести. А туда прислал верных людей – тех же доезжачих своих, и погибли оба. Одного задушили подушками. Другого прирезали.
Несколько дней спустя товарищ обоих загубленных, красавец юноша Федор Иванович Овчина-Телепнев, с другими «верховыми» ребятами толковал.
Высокий не по летам, сильный малый, был он сын родной того самого Ивана, который правил в годы княжения Елены и считался ее любимцем.
– Как дружны вы с осударем! – сказал кто-то Федору Овчине. – И совсем братья родные. Одна стать и постать. Рядом поставить – не разберешь: кто ты, кто царь Иван! Только что постарше ты немного…
Нахмурился Федя:
– Молчи лучше! Любил я его, правда, как брата. И отец мне говаривал: люби государя… А теперь не видел бы его! За что он Мишку и княжича Ивана загубил… Палач, не брат он мне!
Вечером того же дня схвачен был юный Овчина, и не успел никто о нем похлопотать, потому что наутро уже мертвым лежал несчастный. А государь молодой и во дворце в это время не остался.
С гиком и свистом, окруженный целой ватагой приспешников, целой ордой шалопаев из боярских детей и простых молодчиков, помчался Иван за пять верст от Москвы в сельцо Островское, где стоял загородный дворец, построенный покойным Василием.
И в шумном веселье четырнадцатилетний Иван, успевший уж до срока изведать почти все дурное и запретное в жизни, пылкий и рослый не по годам, в разгульном пиру старался он подавить невольно, неведомо почему и откуда выплывшую в душе тоску…
Гудели струны, скоморохи и шуты плясали, визжали… Бабы и девки, согнанные сюда, песни пели красавчику осударю как могли… И сквозь весь нестройный шум, сквозь чад грубого веселья как будто слышал отрок чей-то жалобный, знакомый уху голос, моливший о пощаде, различал чей-то стон.
– Ну што там?! – вдруг словно окрикнул в душе сам себя Иван. – А они, бояре, жалели тебя?!
И, расправив нахмуренные было брови, он беззаветно предался веселью, кипевшему вокруг…
Бояре все это знали, видели.
Пытались они обуздать царя молодого, да не очень. Не до того им вовсе было. И даже отчасти на руку это им. Каждый понимал, почему давал Андрей Шуйский потачку дурным наклонностям ребенка. Руки у бояр тогда свободней, не так связаны. При безупречном повелителе и самим придется не очень свободно жить. Зазорно даже вести ту хотя и скрытую, менее видную сейчас, но беспощадную, смертельную борьбу, которую не переставали поддерживать вельможи.
В минуту, когда пришлось сделать усилие и свергнуть давившего всех Андрея Шуйского, помирились и обещали навеки забыть обиды даже такие враги, как Челяднины и Кубенские, давние «советники» Шуйских, как Воронцовы и Ховрины-Головины, из рода тех Головиных, которые содействовали ссылке отца и сына Воронцовых… Но момент прошел, Шуйский мертв, и все не подумали, как бы им прежде всего ослабить царскую власть, пользуясь малолетством царя Ивана. Нет! Опять поднялась старая вражда, перекоры, доносы да местничество. Полугода не прошло, как результаты сказались. Раньше других стали осматриваться Глинские, особенно много выигравшие от переворота.
Недаром юный государь первые дни своей власти ознаменовал кровавой местью. Он был только вглядчивым и понятливым учеником у старших. Два брата Кубенских: князья Иван и Михаил – сразу подведены врагами под обух. Зимой, в мороз, схвачены были с постелей оба и со всеми чадами и домочадцами увезены в ссылку, объявлена им опала царская за многие дела воровские и непотребные. В том числе говорилось и о сношениях с родичами и сторонниками Андрея Шуйского, с князем Петром Иванычем Шуйским и другими. Кубенские сами толковали так:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: