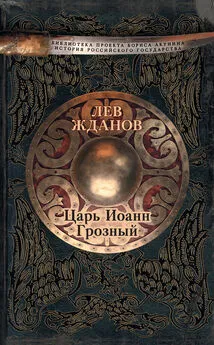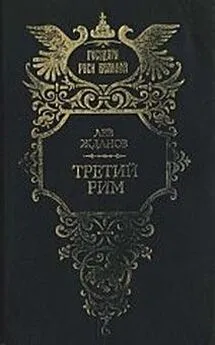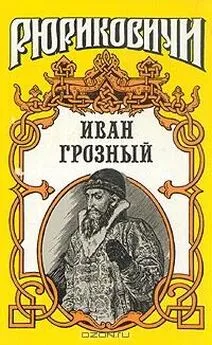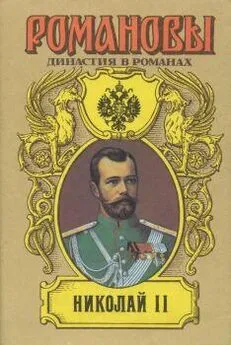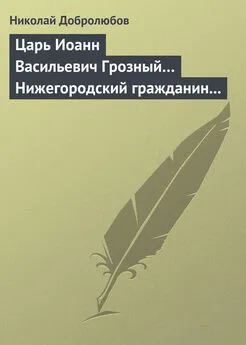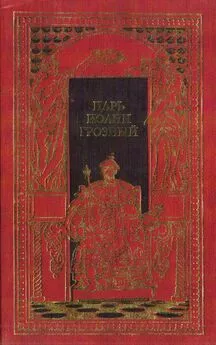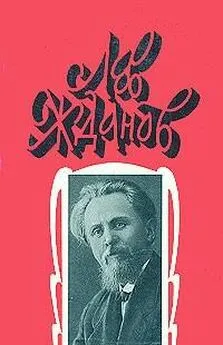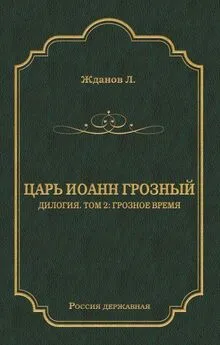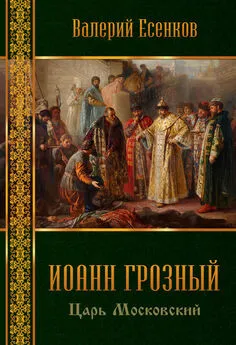Лев Жданов - Царь Иоанн Грозный
- Название:Царь Иоанн Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-099063-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Жданов - Царь Иоанн Грозный краткое содержание
Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.
Представляем роман широко известного до революции беллетриста Льва Жданова, завоевавшего признание читателя своими историческими изысканиями, облеченными в занимательные и драматичные повествования. Его Иван IV мог остаться в веках как самый просвещенный и благочестивый правитель России, но жизнь в постоянной борьбе за власть среди интриг и кровавого насилия преподнесла венценосному ученику безжалостный урок – царю не позволено быть милосердным. И Русь получила иного самодержца, которого современники с ужасом называли Иван Мучитель, а потомки – Грозный.
Царь Иоанн Грозный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Ты сойдись с Шиг-Алеем в устье Цивильска, князь! – сказал Иоанн. – А я домой поверну… Не сподобил, видно, меня Бог, за грехи мои за все, на неверных ополчиться!
И расплакался даже горько полубольной, ослабленный недавними страхами царь Иван.
Хоть удачен был поход Вельского, много добра добыл и пленных татар привел он в Москву, и щедро наградил воеводу царь, а все невесел сидел Иоанн на всех пирах своих, пышных и торжественных, правда, но уж не таких бесшабашных, как прежде. Очистился дворец, как очищена была душа юноши. Ни скоморохов, ни шутов безобразных не видно. Только Семушка Клыч, бахарь один любимый, оставлен, причитальщик и сказочник, нечто вроде старых баянов. Почти ежедневно на сон грядущий сказания, былины и сказки Семушка царю рассказывает. А в общем, дворец на обитель священную стал похож. Посты строго соблюдаются. Службы ежедневно во дворце церковные. К празднику, в престольные дни по монастырям кремлевским и по соборам ходит к литургии царь. Молодая царица тоже там бывает, являясь незримо для толпы переходами крытыми. Ни ее, ни митрополита не должен часто видеть народ посреди себя. Вместо похлебников, ласкателей развратных, ребят голоусых – на государевом «верху» калеки да нищие, богомольцы царские завелись. Заботится о них Иван.
В прощеные дни на Масленой и в Страстную неделю тайные ночные выходы царские совершаются: милостыню царь раздает собственноручно, колодников, заточенных посещает и жалует…
Строго исполняя религиозные все обряды, которыми, бывало, пренебрегал довольно часто, юный государь и в это дело внес присущую ему напряженную деятельность, нервную страстность. Он увлекся церковным пением… Привлекал в свою «стайку» церковную, певческую лучших певчих; искать повелел голоса «изрядные» по всему царству и до слез заслушивался согласных церковных напевов, стараясь, чтобы его певчие были лучше даже митрополичьих «стаек».
Но и этого всего было мало, конечно, для юноши, только и мечтавшего что о славе, о величии царском.
И он старался особенно настойчиво выписывать иноземных мастеров, литейщиков, зодчих… Лил пушки, ковал оружие… Строил храмы новые… И порой, придя поглядеть на новое «дело» осадное, вылитое искусником-пушкарем, по имени Первой-Кузьмин, изучившим дело от фрязина, – царь не только любовался пушкой, но ласкал, гладил, словно живое существо, трехсот-четырехсотпудовые стволы и сам «крестил», давал им имена.
– Вот этот – на татар пойдет на упрямых. Он переупрямит их и пусть наречется «Онагр», сиречь осел дивий, што и бритых основ превзошел. А эту, ростом подлиннее, – пошлем ливонские стены бить – и буде прозвана «Ерихонка».
Укрощенные бояре во всем безропотно помогают царю, подчиняясь особенно влиянию Макария, твердящего вельможам:
– Бог чудо явил! Просветил душу отрока. Бросьте свару! Не повергайте царя на старое!
Сильвестр, сменивший Бармина в качестве государева духовника, неустанно влиял на Ивана, призывая себе на помощь имя Божье, заветы Христа и писания церкви, все, что говорит о чистоте души, о добродетелях человеческих.
Федор Бармин видел смерть Глинского, видел, как старика на части растерзали в самом храме, у митрополичьего места, где несчастный искал спасения от разъяренной черни. И на другой же день протопоп захворал от потрясения, пережитого в эти минуты. Душа и тело честолюбивого священника надломились. Но он был пришиблен окончательно, когда Макарий призвал его и объявил о назначении Сильвестра духовником царским.
Шатаясь, вышел протопоп от Макария.
Через немного дней после того, 6 января 1548 года, Бармин принял пострижение в Чудовом монастыре, но не с целью проложить себе дорогу в митрополичьи палаты, как раньше мечтал.
Каясь со слезами перед духовником своим, Бармин твердил:
– Грешен я! В крови неповинной грешен. Глинский Юрий и присные его по моему навету погублены… Грешен, окаянный, без меры! Только и надежды, что схиму приму, умолю Бога… А то ни ночь, ни день покою нет… Как наяву вижу все гибель безвинных, по моему слову их постигшую… В келью затворюсь, стану грехи отмаливать!
Так и сделал Бармин.
Сильвестр, ставший на его место, ревниво хранил душу царя.
Адашев, хотя и без всяких отличек, без величания, но фактически стал верховным правителем и оберегал царство, как умел. А ему от природы присуща была способность к правлению.
Произвол, лихоимство боярское прежнее, волокита судебная – все это было стеснено городовыми, монастырскими и сельскими вольными грамотами, дававшими народу возможность вводить у себя нечто вроде теперешнего самоуправления посредством выборных, губных и земских старост, сотских, десятских и прочее.
Казна царская, которую уж теперь не грабили так открыто, дерзко и безнаказанно, – богатела. Скоплялись средства и на внутренний обиход, и на предстоящие большие походы, о которых толковал, которые жарко обсуждал Иван с Адашевым, Курлятевым и с лучшими воеводами своими.
Народ тоже успокаиваться стал. Опустелые от голода, мора и произвола наместников деревни и села опять заселялись понемногу.
Вольнолюбивы селяне московские. Плохо им на одном месте – они на другое идут, лучших господ, нового счастья ищут.
Придут осенние сроки переходов, о Филипповом заговении, на осеннего Юрия, около 26 ноября, – и потянутся «переходчики» с одного тягла на другое, а то на «черную» землю государеву садятся. Все-таки легче. Не сгоняют, по крайности, там с пашни, не дав осенью и семян собрать, как делают злые вотчинники-помещики.
Правда, из тяглой общины, которая сидит на земле монастырской или государевой, свободного «выходу» нет. «Откупаться» надо. Так ведь бежать можно. Пути никому не заказаны.
И вся эта «бродячая Русь» оседала прочней и, словно ил плодотворный в реке, отстаиваться начала.
Потому, конечно, и реже недороды, меньше голодовок стало. И мор не так часто жаловал…
Легче вздохнула земля…
Народ сытей – и торг живей. Богатеть быстро стала и сама Москва, сразу, как птица индийская Феникс, в два месяца возрожденная из пепла.
Много разного люду в Москве, а больше всего – торгового.
Да и кто не торгует в ней?
И мелкий служилый человек: стрелец, пушкарь, подьячий, посадский… И дворяне в торговые люди записывались, «гостями» объявляли себя.
Недаром Москва выросла и стоит на великом междуземельном шляху, на пути из «Варяг в Греки» и дальше, на Восток, богатый и миррой, и золотом, и шелковыми тканями, и тайнами древних волхвов.
Пахотные интересы земледельческих по натуре славянских племен, из которых сложилось государство, – здесь, в узловом историческом поселке, на Москве, счастливо связались с торговыми интересами – и создалось царство Московское, а потом – и всея Руси!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: