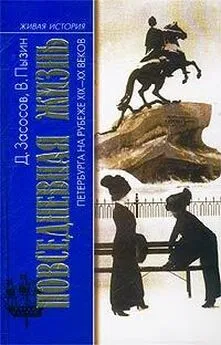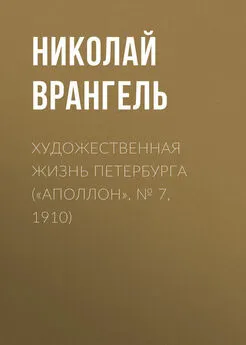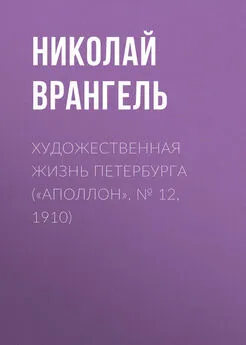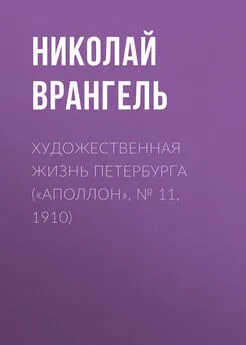Д. Засосов - Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов
- Название:Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Д. Засосов - Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов краткое содержание
Изданию воспоминаний Д. А. Засосова и В. П. Пызина предшествовала частичная публикация их в литературной обработке М. Е. Абелина в журнале «Нева» (1987-1989 гг.) под названием «Пешком по старому Петербургу».
Настоящая книга не является перепечаткой изданных текстов. Издательство предлагает читателю авторскую редакцию рукописи, восстановленную вдовой В. И. Пызина Е. И. Вощининой, за исключением некоторых глав и страниц, оставленных ею в журнальном варианте.
Изданием этой книги, снабженной солидным научным комментарием и богато иллюстрированной, издательство отдает дань уважения труду и таланту авторов мемуаров и выражает искреннюю признательность Екатерине Ильиничне Вощининой за ее деятельное участие в подготовке текста к печати.
Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Без зависти и лжи протекала жизнь другой семьи, ютившейся в невзрачной квартирке во дворе, состоящей из комнаты и кухни. Отец семьи, слесарь на Варшавском вокзале, зарабатывал примерно столько же, сколько глава только что описанной семьи, но его девиз был: «По одежке протягивай ножки». Добросовестный мастер и серьезный человек. Его дочь, работница на заводе «Треугольник» (отчего от нее попахивало резиной), приучилась в рабочей среде держаться независимо и, несмотря на протест родителей, вышла замуж за полюбившегося ей парикмахера. Отец не благоволил к будущему зятю: с его точки зрения, занятие парикмахера не настоящая работа и вообще это народ ненадежный. Друзья его утешали: «Ничего, дочка твоя в обиду себя не даст, она его еще скрутит».
Их слова оправдались в дальнейшем полностью. Парикмахер вел себя исправно, через некоторое время вошел в пай к своему товарищу по парикмахерской, стал одним из хозяев.
Владельцами средних этажей с большими, благоустроенными квартирами были главным образом купцы.
В Петербурге купечество, куда входили владельцы домов, торговых заведений, фирм, подрядчики, всякого рода поставщики, было большой силой. «Серых» купцов в наше время уже было мало, времена героев Островского миновали. Купцы были теперь в большинстве случаев образованными людьми в своей области, кончали коммерческие училища — Екатерининское, Петровское, а дети их поступали уже в университеты, в институты, учились музыке, языкам. Родители старались выдать замуж своих дочерей за чиновников, офицеров, роднились таким образом с дворянами.
Быт в этих семьях был своеобразным — терял постепенно черты прежнего купечества, но и не получил еще внешнего лоска аристократии, к которой тянулись.
Типичным образцом такой семьи была семья подрядчика О., жившего в нашем доме в третьем этаже. (Вскоре он переехал в фешенебельный район — на Сергиевскую, — в свой собственный дом, заняв целый этаж.)
Крупный подрядчик О. вел большие строительные работы и имел несколько домов в Петербурге. Семья большая, но прислуги он держал немного, часть работ по дому выполняли дочери и разные приживалки. Обстановка в квартире была солидная, добротная, уже без всяких модных вывертов и купеческих архаизмов вроде золоченой мебели. В кабинете хозяина в стену был вделан несгораемый шкаф, который говорил о том, что О. воротил крупными делами. Он был большого роста, с бородой, дородный, осанистый, в свое время кончил Екатерининское коммерческое училище и имел звание коммерции советника и почетного гражданина Петербурга. Два старших сына учились в университете на математическом факультете, третий после окончания гимназии пошел в драгунский полк вольноопределяющимся. Обе дочери кончили гимназию. Жизнь в доме шла размеренно, по-деловому. Сам О. был очень занят, ездил по работам, в банки, заключал сделки, проверял рядчиков, десятников, составлял счета, проверял сметы. Дома ему приходилось подолгу сидеть у себя в кабинете и работать. В обычные будние дни в доме было тихо, скучновато, все занимались своими делами. Стол у них был самый простой, без всяких деликатесов. Молодежь в церковь не ходила, самому приходилось, так как он был старостой в одной из близлежащих церквей. Молодежь интересовалась театрами, концертами, ходила на балы, не отставала от обычной столичной молодежи зажиточного слоя. Автору довелось побывать в этом доме. Когда наступали праздники и семейные торжества, собиралось много гостей, хозяева умели их принять богато и радушно. Гости говорили о делах и политике. Люди были солидные, что называется, «с весом» в прямом и переносном смысле. Фраков было мало, большинство сюртуков. «Матроны» купеческого звания, разодетые по случаю праздника, несли на своих дородных шеях тяжелые золотые цепи с громадными кулонами и медальонами с драгоценными каменьями. Золото и дорогие камни выставлялись напоказ, подчеркивая благосостояние семьи. Собиралась молодежь, в большинстве учащиеся — студенты, товарищи сыновей хозяина, барышни — подруги дочек. Курсисток среди них почти не было — в этом кругу считалось, что удел девушки — выйти замуж за «хорошего» человека, иметь свой дом и семью. Под словом «хороший» разумелось, что этот человек должен быть в первую очередь состоятелен, деловит, иметь связи в обществе, служебное положение. Среди гостей были и люди с малым достатком, зависимые от хозяина, некоторые даже и незваные, считавшие своим долгом прийти с поздравлением. Хотелось им покушать и выпить. Держали себя эти гости скромно, в разговор сами не вступали, больше поддакивали и соглашались с мнениями «солидных» людей. Когда все гости собрались и попили чайку, начиналась отчаянная игра в карты, игры были только азартные, процветали «железка», польский банчок, «двадцать одно», знаменитая «стукалка» с ее тремя ремизами. За дамскими столами играли в «девятый вал», менее азартную игру.
А что делала в этом доме молодежь? Сначала она пыталась потанцевать, наладить разные игры, успехом пользовались шарады, требовавшие артистизма. В квартире был большой зал, всегда приглашался тапер, казалось бы, молодежь должна по-молодому и развлекаться. Но зараза азартной карточной игры не миновала и их: вскоре они рассаживались по столам и начинали играть в карты. Только небольшая кучка молодежи продолжала искренне веселиться, шутить, вести интересные разговоры, делиться впечатлениями.
В описываемое нами время азартная карточная игра в Петербурге была каким-то поветрием: играли в клубах, в богатых домах, играли в средних и бедных семьях, играли в вагонах дачных поездов, и на окраинах города, и во дворах. По-видимому, многие были заражены жаждой легкой наживы.
Часов в 12 подавался первый ужин. Начинался ужин обильными закусками: икрой, семгой, копчеными сигами, всевозможными деликатесами. Привлекала внимание громадная осетрина или лососина на мельхиоровом блюде с разнообразным гарниром, с приколотыми по хребту особыми красивыми шпильками вареными раками. После закуски подавались обычно два горячих блюда — рябчики, куропатки, индейки, что-нибудь еще рыбное или мясное.
В заключение десерт — пломбиры, фрукты. Все это обильно заливалось всевозможными водками и винами. Такой стол был приготовлен для солидных, почетных гостей. Для менее почетных и для молодежи стол тоже был хороший, но уже не тот: вина подешевле, дорогих закусок поменьше.
После ужина опять садились за карты. Теперь начиналась самая настоящая крупная игра. После сытного ужина и выпитого вина сдержанность уменьшалась, толстосумы старались показать свое денежное величие. Но даже во время азарта каждое слово взвешивалось этими деловыми людьми, потому что и за карточным столом нужно было проявить себя человеком сдержанным и умным, с которым можно вести дела.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: