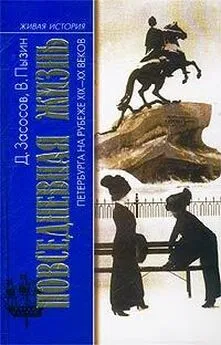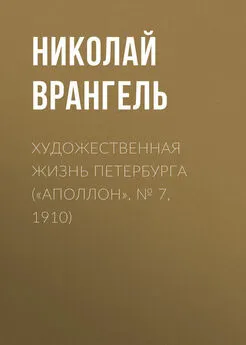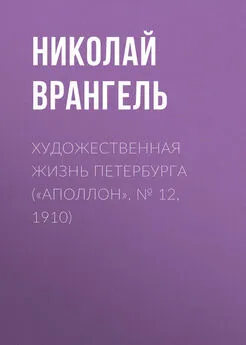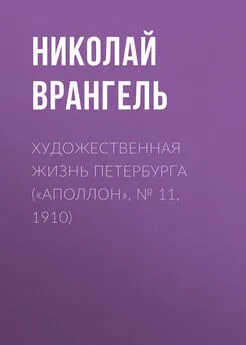Д. Засосов - Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов
- Название:Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Д. Засосов - Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов краткое содержание
Изданию воспоминаний Д. А. Засосова и В. П. Пызина предшествовала частичная публикация их в литературной обработке М. Е. Абелина в журнале «Нева» (1987-1989 гг.) под названием «Пешком по старому Петербургу».
Настоящая книга не является перепечаткой изданных текстов. Издательство предлагает читателю авторскую редакцию рукописи, восстановленную вдовой В. И. Пызина Е. И. Вощининой, за исключением некоторых глав и страниц, оставленных ею в журнальном варианте.
Изданием этой книги, снабженной солидным научным комментарием и богато иллюстрированной, издательство отдает дань уважения труду и таланту авторов мемуаров и выражает искреннюю признательность Екатерине Ильиничне Вощининой за ее деятельное участие в подготовке текста к печати.
Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начать с того, что форма, блестящая в строю, казалась людям нелепой, как только военный смешивался с толпой в обыденной ситуации. Вблизи она выглядела грубо, вызывающе. Как всегда, народ сразу замечал смешное и нелепое. Часто слышались насмешки над бедными солдатами. Вот идет кирасир, и тотчас ему вдогонку: «Ты вроде медного самовара!», потому что кираса не прилажена, в пояснице отстает. При виде солдат кавалерийских полков, у которых кивер на этишкете, кричали в толпе: «Эй, голова на веревке, смотри не потеряй». На офицерах была форма, прекрасно сшитая, носить они ее умели, и то вспоминается такая картина: хоронили какого-то генерала, гроб провожали военные в полной парадной форме. Два офицера лейб-гвардии драгунского полка вышли из процессии закурить и пошли по панели в общей толпе. Их нарядные кивера с высоким султаном и свисающими кистями настолько не вязались с котелками, шляпами, картузами толпы, что они сразу почувствовали себя неловко, бросили папиросы и поспешили вернуться в процессию. Там они были на месте, вся процессия выглядела очень эффектно.
Нелепо было и то, что в гвардейских стрелковых полках зимой и летом носили барашковую шапочку; рубахи были малиновые с пояском из трехцветных жгутов с кистями, поверх рубахи безрукавка, обшитая золотым галуном. Но главное — сапоги. Офицер, скажем, заказывал себе сапоги с голенищами, доходившими до самого верха ноги. Когда он спускал голенища, как полагалось, ниже колена, на сапоге собиралась большая гармошка. Сапоги гармошкой считались особым шиком и должны были придавать якобы истинно русский стиль. Солдаты также носили сапоги гармошкой, но выглядели они как-то грубо, а начищались зато до умопомрачительного блеска.
Но обратимся к приему новобранцев.
Их распределение по полкам происходило в Михайловском манеже. От каждого полка приходила делегация для отбора новобранцев. Она выглядела торжественно — взвод солдат в полной парадной форме с оркестром во главе, с офицером или даже с командиром полка. Начинался отбор: высокие шатены с правильными носами — в Преображенский; блондины — в Измайловский (народ называл их «хлебопеки»); рыжие — в Московский полк (им народ дал прозвище «жареные раки»); высоких брюнетов со стройной фигурой — в кирасирские полки; с усами — в гусарские или другие кавалерийские; с бородой — в «вензельные» роты пехотных полков гвардии; высоких с широкой грудью — в гвардейский флотский экипаж. И это без опроса, без всякой беседы.
Интересным зрелищем был развод новобранцев по полкам. Например, по Невскому проспекту ехал на прекрасных черных конях оркестр и взвод конногвардейского полка, в медных касках с двуглавыми орлами, в начищенных кирасах, полых колетах, при длинных палашах. Оркестр играет бравурный кавалерийский марш. А сзади идет разношерстная группа парней, многие в лаптях, с узелками, котомками, сундучками. Новобранцы как-то испуганно озираются по сторонам, ошеломленные всем происходящим. Идут не в ногу, спотыкаются. А следом — гвардейские моряки, с тесаками на белых портупеях, с ленточками на бескозырках, ведут за собой будущих матросов под звуки великолепного оркестра гвардейского экипажа. За ними — преображенцы в высоких киверах, выправка их необыкновенно хороша, они чеканят шаг, ведя за собой будущих товарищей. Публика останавливается, смотря на это интересное зрелище. Простой же народ реагирует по-своему: некоторые подбегают к новобранцам, суют им в руки папиросы, деньги. Женщины даже причитают со слезами, жалея солдатиков. А мужчины, особенно те, которые отбыли солдатчину, отпускают разные шутки: «Что ты, парень, рваные лапти в Питер привез?», «Забрили тебе лоб, так попробуй шилом патоки». На эти замечания и насмешки новобранцы смущенно улыбаются, а те, что побойчее, находчиво отвечают тоже шуткой.
Затем начиналось для молодых солдат тяжелое время учения. Ведь нужно было из деревенского парня, ходившего неуклюже, вразвалку, в 2-3 месяца сделать «справного» гвардейца, который мог бы держать «фрунт», «есть глазами начальство», отдавать честь, «печатать» шаг и пр. Пока же молодые солдаты не усвоили всей премудрости, они не допускались к присяге. А до этого они не получали даже полного обмундирования, например, матросы носили бескозырки без ленточек, а десантные сапоги им не разрешалось чернить ваксой. В кавалерии молодые солдаты первое время не могли садиться и даже ели стоя — результат учебной езды без седла. У некоторых солдат руки были в рубцах от ударов хлыста, если новобранец неправильно держал поводья.
Когда первоначальная выучка заканчивалась, молодые солдаты принимали присягу и только тогда могли получить первое увольнение из казармы на 3-4 часа. Первые шаги на улице были для них очень трудны, необходимо было проявлять величайшее внимание, чтобы не опоздать отдать честь офицеру строго по всей форме, иначе можно было угодить на гауптвахту. А перед генералом встать за три шага во фронт, на лице отразить «рвение», иначе кроме гауптвахты можно было получить и более тяжелое наказание. Особенно неловко чувствовали себя солдаты на улицах в царские дни и в большие праздники, когда надевали парадную форму; кивер или каска давили голову, высокий жесткий воротник подпирал и натирал шею. Гуляющих офицеров в эти дни было больше и приходилось проявлять особую бдительность.
В праздники солдат строем водили в церковь, там они стояли шеренгами. У каждого гвардейского полка была своя церковь. Там делалось все по команде: «на колени», «встать». Ремни и сапоги скрипели. Если молились кавалеристы или артиллеристы, примешивалось бряцание сабель и шашек. К причастию солдаты подходили без оружия, которое складывалось в каком-нибудь углу храма. Все это моление строем и по команде не производило впечатления действительно моления, а скорее, отбытия наряда. После церковной службы командир полка (в гвардии обязательно генерал) принимал короткий парад; солдаты по выходе из церкви проходили под музыку мимо командира, который с ними здоровался. Такие картины мы наблюдали в Троицком соборе, где молился Измайловский полк.
Этот собор был одновременно музеем войны с турками 1877-1878 гг. На стенах собора были развешаны турецкие знамена, под ними на медных листах было выгравировано, в каких сражениях они взяты. В особых витринах помещались мундиры князей, генералов, погибших в эту войну. В других витринах хранились ларцы с пулями, извлеченными из ран воинов. Солдаты, рассматривая сплющенные свинцовые пули, говорили: «Вот она — смерть-то солдатская». Перед собором стоял памятник славы — высокая колонна, сложенная из турецких пушек. На цоколе колонны были громадные бронзовые доски с выпуклыми буквами — история всей турецкой войны. Вокруг колонны стояло несколько полевых пушек на колесах. По углам церковной ограды вместо столбов были врыты большие орудийные стволы, на некоторых можно было разглядеть два клейма — завода Круппа и Оттоманской империи (вот кто снабжал оружием турецкую армию).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: