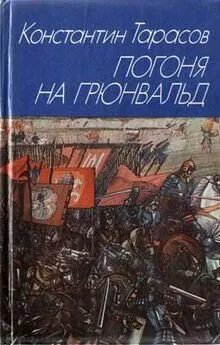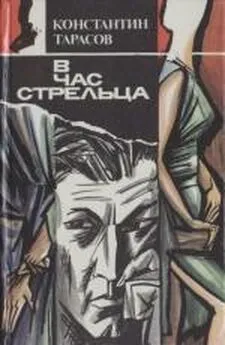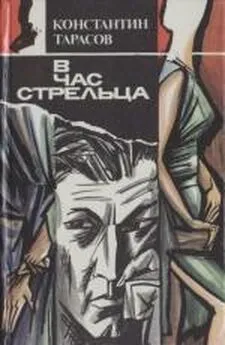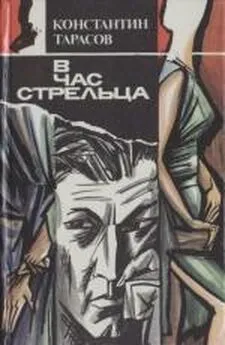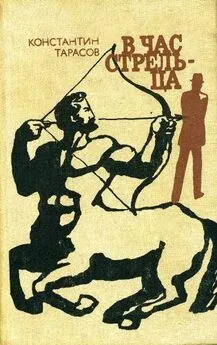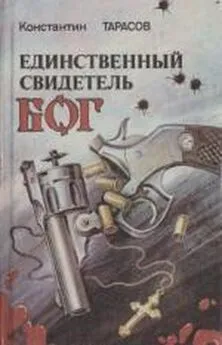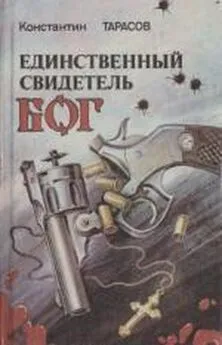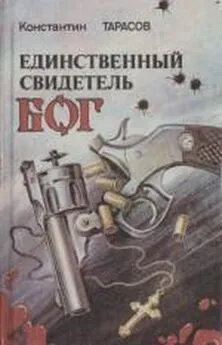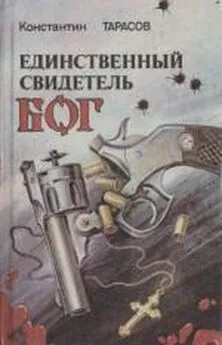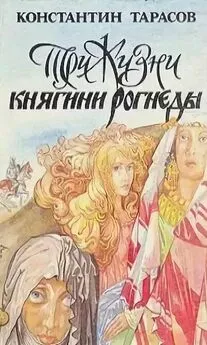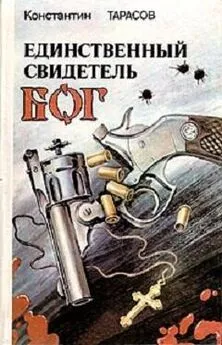Константин Тарасов - Погоня на Грюнвальд
- Название:Погоня на Грюнвальд
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крок уперад
- Год:1991
- Город:Минск
- ISBN:5-7815-1355-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Тарасов - Погоня на Грюнвальд краткое содержание
Центральное событие романа – знаменитая Грюнвальдская битва (1410 г.), в которой объединенные силы поляков, белорусов, литовцев и украинцев разгромили войска Тевтонского ордена. В романе представлена галерея исторических личностей – великий князь Витовт, король Ягайла, великий магистр Ульрик фон Юнгинген, князь Швидригайла, жена Витовта княгиня Анна и др.
Книга рассчитана на широкого читателя.
Погоня на Грюнвальд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После щедрых княжеских наград следовало великодушничать, и Андрей ответил:
– Если пану Станиславу надо, я без выкупа уступлю.
– Ха! – засмеялся Чупурна.– Уступаешь – беру! Жалко было денег, щемило Андрея, но знал, что больше выигрывает, чем теряет. Нужда наперед неизвестна, а подарок запомнится, и на людях сделан – всем понравилось, случится какая важность – можно смело маршалка просить, он большую власть держит в руках.
О крыжаках чуть было сказано, но сразу все оживились, и весело, дружно Жигимонт Кейстутович, Монивид, Монтыгирд стали вспоминать князя Кейстута: как лихо из плена уходил, храбро рубился, как водил дружины литвинов на Лысую Гору брать лупы с польского монастыря. Крепко тот монастырь облупили, гвоздя не оставили; действительно, та гора лысой стала. А поляки вдогонку только слух пустили, будто Лысогорская икона Богоматери камнем легла на воз, с места тот воз стронуться не мог. А те, кто снимал ее со стены, будто в тот же день и умерли страшной смертью. Смех! В голове богу польские иконы! Что и впрямь легло камнем на возы, так что кони едва тянули,– так это сокровища из лысогорской скарбницы. Два столетия их монахи собирали – наибогатейший был монастырь. Вся Польша плакала после того наезда. Славные были времена!... Тут все старые приятели князя Витовта и он сам как-то одновременно притихли, припомнив, что они уже давно сами католики, и непристойно им выхваляться такими грехами...
Андрей внимательно слушал и благодарил бога за свое счастье! Повезло, как одному с сотни тысяч везет! Взял Швидригайлу – и все, наверху, действительно, из грязи в князи. С трудом пять коней выставлял, сейчас пятьдесят пять будет выводить. Своя хоругвь. Это же сколько деревень подарит ему Витовт. Дворов, может, пятьсот! Ну, пусть чуточку меньше. И деньги появились. Вот отец подивится! Жаль, что нельзя сейчас в Полоцк отъехать. И дзядам будет радость. Пошли Ильиничи в гору, может, со временем и в наместники попадем, может, не только сегодня, но и часто придется за этим столом сидеть... И дурман удачи, мечты, всегдашнего успеха хмелил Андрея сильнее, чем вино Витовта, краем уха слушая похвальбы отцу, не отступал мыслями от Швидригайлы. Сомнение занозило, ершило, удерживало объявить вслух: «Казню!» Думал: казнить легко. Казнил, схоронил, ну и что выгадал? На белом свете нет? Держать в подвале – то же самое, словно нет. Старая, отточенная за годы осторожность подсказывала: невыгодно казнить. А уж если выдавать палачу, пусть и Ягайла руку приложит. Иначе ославят: Витовт – кровожадный кат, Ягайла – милосердный ангел. Пусть живет, оставлю жизнь. Но не даром же? Что даром, то не помнится. Даром Швидригайле давали то Витебск, то Новгород-Северский, то Брянск, то Подолье – он не помнил добра, бросал. Проскочило в уме: «Подолье», и сразу вся затея ровно сложилась: не медля, после снеданья, продиктовать Цебульке письмо для короля – мол, Швидригайла вступил в союз с Ульриком фон Юнгингеном против короны и княжества, готовился в спину ударить, когда тронемся отнимать: вы – Добжинскую, мы – Жмудскую земли. С божьей помощью схвачен, сидит на цепи. Пусть задумается, что с братцем делать. А через месяц в Бресте съезд. Там уж твердо: если Швидригайле жизнь, нам – Подолье. Хватит, попользовались поляки лучшими землями, пора назад возвращать. И ведь согласится, чтобы побольше людей привели на войну. А Швидригайлу на месячишко в Крево, в большую башню, где князь Кейстут и он, князь Витовт, отметились ногтями на стенах. Камни осклизлые быстро остудят кровь. А затем в Кременец, туда никто не дотянется, ни немцы, ни приспешники, беглому пруссаку Конраду Франкенбергу под охрану, у него дьявол не сбежит.
И, решив судьбу стрыечного брата, Витовт забыл о нем, развеселился, перебил Жигимонта, сам завспоминал, как требовал того праздник, о памятных делах своих дзядов.
ХАТА ШЕПТУНЬИ. ЛИСТОПАД
Старый Иван Росевич, встретив на дороге сына, не верил, что довезет его домой с душой в теле. Однако бог милостив, внесли под родной кров живым. Стали глядеть рану – мать, Софья, Еленка, бабы-челядницы в плач: из свищей текла гнойная кровь, жизнь была на последнем нетлении, вот-вот загаснет. Если и оставалась в Мишке жизнь, то небесная, потому только и дышал, было видно, что запаздывала, ходя по другим, смерть.
Более скорые зашептались, что надо спешить везти из Волковыска отца Фотия – пусть причащает и отпоет. Но тут кто-то из дворни вспомнил о Кульчихе, возгорелась надежда: вдруг колдунья осилит выправить? Гнатка поскакал за ней, и скоро древняя старуха переступала порог. Одета была в черную рубаху, а поверх – в изношенный, изгрызенный мышью кожух и обмотана вороньего цвета платом. Никто не знал, сколько ей лет, считалось, что живет третий век – до того пригнулась к земле, ужалась, укоротилась, стемнела лицом, только колкие глаза светились среди морщин. Войдя, Кульчиха ни на кого не взглянула, никому слова не сказав, прошла к Мишке, отвернула тулуп, задрала рубаху и длинным заскорузлым пальцем потыкала прямо в рану. Из Мишки выдавился мучительный стон. Колдунья вновь тыркнула пальцем в свищ – посильнее – и захихикала, когда Мишку исказило от дикой боли.
– Вези, вези хлопца,– проскрипела Кульчиха, повернувшись к старому Росевичу.
– Куда? – удивился старик.
– В избенку мою! – ответила колдунья.
– А жить-то...– заспешила узнать главное Мишкина мать.
– На что ж он мне мертвый!
Заспешили везти. Жила Кульчиха в трех верстах от Роси, в когда-то крепкой, а сейчас покривившейся, обомшелой, грозившей рухнуть хате. Помнилось, а вернее, передавалось по памяти, что в былое время сидел здесь дегтярь, а что стало с дегтярем, кем приходилась ему Кульчиха – женой, дочкой, сестрой или никем не приходилась, а просто приблудила, заняла опустевший двор, этого никто не запомнил. Все хозяйство шептуньи составляла коза, которая, к отвращению боярина Ивана, обитала вместе со старухой в избе. Еще в избе, когда стелили шкурами лавку и опускали на них раненого, обнаружился бурнастый, мерзкий пес – вот в этакий-то хлев приходилось помещать сына. Старуха, недолго подумав, выставила условия: чтобы сенца привезли, и ржаной муки привезли, и мяса, и по гарнцу конопли, мака, сушеной малины и косу лука, и по бадейке брюквы, репы, моркови, и кувшин свежего медвежьего жира, и через день телячью печенку, и каждый день живого куренка. И чтобы никто не появлялся наведывать – она это не любит, будет надо – сама призовет, а если поднимется молодой боярин, то ей должны дать сорок гривен. «Зачем тебе? – чуть было не вскрикнул изумленный Росевич.– Что тебе с ними делать?» Шептунья, поняв, разъяснила с прихихикиваньем: «Чтобы крепче здоров был. Тебе на память. А гривны в землю зарою, на них девясил хорошо растет». Хоть и было очевидно, что и сенцо, и репа, да и все прочее, кроме, может, жира и печени, к лечению раны не приложатся, но все названное шептуньей в тот же день было доставлено, и потекли в Роси дни неведения и волнения. Челядник, ежедневно возивший Кульчихе курицу, Мишку не видел, зато видел и сообщал, что колдуньина коза обжирается морковью, а пес жрет отварное мясо и вовсе не косточки, а полностью куриные ножки идут ему. «Прибью! – думал боярин Иван.– Помрет Мишка – зарублю и Кульчиху, и козла, и собаку ненасытную!» Но потом, пугаясь, что злобные такие мысли услышатся колдуньей, каялся и молился за ее здравие и исцеление единственного сына.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: