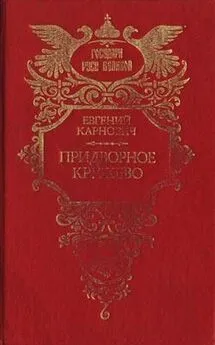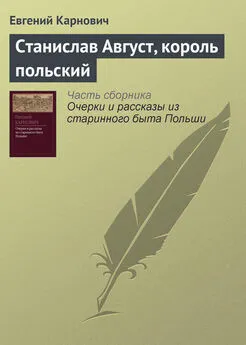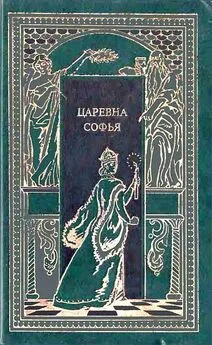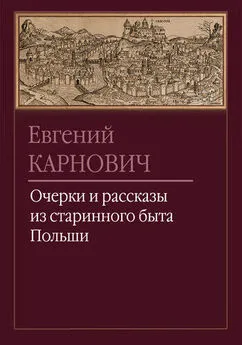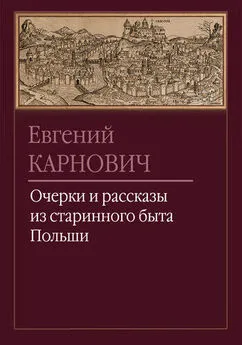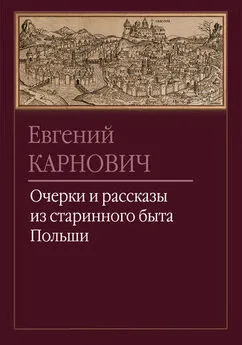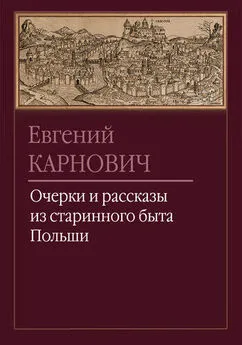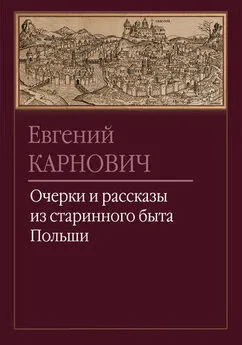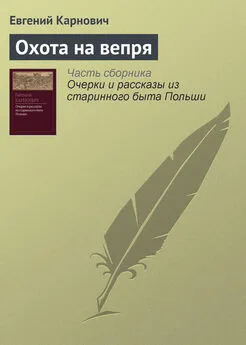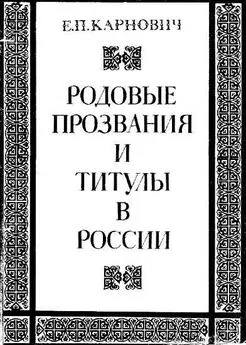Евгений Карнович - Придворное кружево
- Название:Придворное кружево
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Карнович - Придворное кружево краткое содержание
Интересен и трагичен для многих героев Евгения Карновича роман «Придворное кружево», изящное название которого скрывает борьбу за власть сильных людей петровского времени в недолгое правление Екатерины I и сменившего ее на троне Петра II.
Придворное кружево - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Полученный Головиным указ и записка относились к Девьеру.
XXII
Неприветливо и мрачно выглядело Белое море. Был исход августа месяца, и в этой полосе России наступала уже ранняя осень. На море не разыгрывались сильные бури и не разражались ураганы, непродолжительная борьба с которыми доставляет своего рода наслаждение; но зато над ним висели постоянно серые тучи, а густой туман и неустанно моросивший дождь застилали унылую даль.
В это время по волнам моря плыло небольшое, неуклюжее судно стародавней, но надежной постройки и неприспособленное к быстрому ходу. Судно это направлялось из Архангельска в знаменитую Соловецкую обитель. У руля стоял кормчий с длинными седыми волосами и такою же бородой. На нем была большая меховая шапка и нагольный* тулуп; он зорким глазом следил за направлением судна и казался опытным и смелым моряком. Да он действительно и был таким, так как, несмотря на мирскую его одежду, это был инок Соловецкого монастыря, постригшийся там после того, как он, пожелав принять «ангельский чин», покинул занятие мореходством, как занятие, доставлявшее выгоды, и начал служить без всякой мзды только угодникам Божиим Зосиму и Савватию.
Богоугодным делом считались его труды, потому что он обыкновенно перевозил богомольцев, желавших посетить отдаленную обитель, но теперь на его долю пришлась другого рода работа. Судно, которым он управлял, не перевозило богомольцев, так как в эту позднюю, относительно беломорского прибрежья, пору никто уже не отправлялся в путь на Соловки. Притом и с первого взгляда на судно, которым правил инок-кормчий, можно было догадаться, что оно не предназначено для переезда благочестивых странников. На палубе его расхаживал часовой с ружьем на плече, а из люка вылезали время от времени солдаты, чтобы сменить с караула своего товарища, стоявшего на часах, или посмотреть на будоражившееся от ветра море. Небольшие окошки, пробитые в кормовой части этого судна, были заделаны крепкими железными решетками.
На носовой части судна лежали, завернувшись в тулупы, двое молодых монастырских послушников, расправлявшие или убиравшие – когда было нужно – по команде кормчего паруса. Но теперь этим помощникам не предстояло никакой работы: ветер дул хотя и довольно сильно, но постоянно и ровно, так что никакой перемены парусов не требовалось и они могли спокойно вести свою беседу. Предметом же ее были узники, которых везли теперь из Архангельска в Соловки.
– Говорят, что один из них был в Питере самый важный вельможа, был граф, а теперь сделался ничем, стал ниже последнего мужика. Другой тоже был знатный господин…
– А ты не видал их в лицо? – спросил товарищ.
– Да как же их увидишь? Кроме того, что их посадили к нам на баркас ночью, и привели-то их с закутанными лицами, в низко нахлобученных шапках, а кругом них шли солдаты и не позволяли никому не только останавливаться, но даже и подходить близко.
– Вишь что! А как же они прозываются? – с любопытством спросил послушник.
– Да кому же это известно? Даже и отец архимандрит знать этого не будет. Заключат их, как обыкновенно заключают знатных бояр, под именем «известной персоны». Вот и весь сказ.
– Ну, уж отец архимандрит совсем иная статья. Он у нас всему голова, ему и военная команда, и сержанты, и офицеры, пребывающие в монастыре, – все подначальны.
– А если и будет знать, так все-таки нам ничего не скажет…
В это время кормчий, соображаясь с переменою в направлении ветра, крикнул послушникам, чтобы они прибрали один парус, и те опрометью кинулись исполнять его приказание.
Морской путь на Соловки был однообразен и печален. На нем только по временам встречались в открытом море утлые суда, и находившиеся на них пловцы перекрикивались с теми, которые были на баркасе, но не получали от них никакого ответного отклика, так как им приказано было молчать безусловно и не только не вступать в разговоры с встречающимися пловцами, но даже ни слова не отвечать на их вопросы.
Но вот на темно-серой завесе неба чуть-чуть забелела святая обитель, к которой направлялось судно, и спустя несколько часов оно пристало к высокому берегу острова. Путь был кончен, но узников не выводили еще на берег, ожидая прибытия отца архимандрита, который не только священнодействовал, но и военачальствовал на острове.
Узники сквозь решетку могли рассмотреть часть крепких монастырских стен, с которых еще не слишком давно, во дни царя Алексея, гремели пушки, направленные на царскую рать, приходившую усмирять непокорную обитель. Воспоминание об этом крамольном времени еще свежо сохранилось в местных преданиях. Посещавшие Соловки богомольцы с любопытством слушали рассказы о том, как смиренные прежде иноки не захотели – защищая русскую старину от московских новшеств – признавать над собою ни царской, ни патриаршей власти; как они вооружились сами и привели в оборонительное положение, превратили в грозную твердыню свою обитель; как тогдашний архимандрит, начальствовавший над монастырскою ратью, ходил по стенам обители, кропил святою водою расставленные на них пушки и, целуя их, приговаривал: «Голубушки-голландушки, не выдавайте нас! По Бозе и по святых его угодниках соловецких вы первые наши защитницы». Под грохот этих орудий не раз происходила кругом монастырских стен сеча монастырской братии с стрельцами и царскими ратными людьми, которые, попятившись от развоевавшихся монахов, не решались уже ходить на приступ и держали монастырь в тесной осаде в продолжение семи лет. Наконец среди монашеской братии нашелся изменник, показавший осаждавшим тропинку, по которой они, не подвергаясь смертоносным выстрелам с монастырских стен, пробрались тайком в обитель и внезапно напали на беспечно покоившихся за надежными стенами ратников, считавших себя в полной безопасности от нападения врага с той стороны, с которой оно было произведено так неожиданно.
Таинственным узникам, привозимым теперь в Соловецкую обитель, было, впрочем, не до таких исторических воспоминаний; много было у них и своих личных, и семейных воспоминаний о том, чем они были прежде и что они оставили в Петербурге и что было теперь отдалено от них на огромное расстояние и морем, и сушею.
Вереница этих горьких дум была прервана шумом на палубе над их головами. Сопровождавшая их военная команда засуетилась; растворились широкие монастырские ворота, и в них, сопутствуемый двумя монахами, показался отец архимандрит, отдавший приказание о выводе с баркаса привезенных узников, которые и вышли на берег, окруженные солдатами.
Не обращая как будто никакого внимания на своих будущих затворников, архимандрит пошел впереди них, звякая болтавшимися у него в руках на ремешке большими ключами. Все делалось молча; слышались только мерные шаги конвойных да удушливый кашель одного из арестантов, который по походке казался изнуренным тяжелою болезнью, тогда как другой шел бодро, подняв вверх голову.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: