Григорий Мирошниченко - Азов
- Название:Азов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1977
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Мирошниченко - Азов краткое содержание
В романах «Азов» и «Осада Азова» Г.Мирошниченко рассказал о борьбе русского народа с иноземными захватчиками в XVII в, о походах донских казаков под взятый турками в 1471 г. старинный русский город Азов, превращенный ими в мощную крепость, которая препятствовала выходу России к Дону и к Черному морю.
Ромен Роллан. Вильнев, 19 марта 1936 г.: Ваша маленькая книга, которую я прочел с величайшим интересом, очень трогательна. Я должен сказать, что, несмотря на то что это – книга для детей, она одна из самых трогательных, которые я читал о гражданской войне, имевшей место в вашей стране (конечно, я знаю только те книги на эту тему, которые были переведены на французский язык, так что я могу судить очень неполно). Эта небольшая книга еще раз показывает нам, как в вашей стране создается новое человечество, сознательное и свободное. Последние страницы, где вы рассказываете о том, что случилось потом с вашими товарищами и с вами самим, желающим «идти вперед», доставили мне самое большое удовольствие.
Жму вашу руку, дорогой товарищ, и желаю вам удачной работы, здоровья и сил.
Азов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Бывал. Дорог немало былью поросло…
И дед слагал всякие были: о звездах, которые в туманах не найдешь; о волнах буйно-синих, которые глотают струги с людьми; о кораблях турецких, которые горят, как порох….
Плетет дед Черкашенин из лозы плетенки, а перед ним шумит вечно живой кормилец Дон Иванович. Посмотрит дед на него, а он будто сам рассказывает ему, что видывал. Князья киевские бывали на Дону; послы московские – именитые бояре, послы персидские, турецкие; купцы астраханские, казанские, многих чужеземных стран…
Много есть что вспомнить и самому старику Черкашенину. Еще в тысяча пятьсот семидесятом году сопровождал он до Кобякова городища Новосильцева – первого посланца от грозного царя Ивана Васильевича к турецкому султану. А как возвратился Новосильцев из Царьграда, сам пожелал, чтобы до Воронежа снова провожал его атаман Михаил Черкашенин. И не счесть, в скольких боях и походах бился с врагами Руси великой старый атаман… А Дон все течет да течет неторопливо, величаво. Не он ли, Дон, грозно шумел в непогодь, славя бессмертные дела русские и призывая к отпору всем ворогам?
Заглядывая в подернутые слезой глаза старика, Стенька сказал:
– Дедуся! Слушать тебя всегда занятно. Ты б про Ермака нам поведал! Охота послушать!
А казачата все сказали:
– Дедуся, про Ермака расскажи!
А с Ермаком Тимофеевичем у Михаила Черкашенина была особая дружба. Да только перед тем как он станет сказывать, – давно это приметил Стенька, – он вынет легкий персидский платок, вытрет им затуманившиеся глаза, призадумается. Сначала припомнит одно, потом – другое, а потом не торопясь станет говорить тихо и складно:
– Вот что, мои ребятушки, орлы-орлятушки. О Ермаке говорить – надобно человеку двенадцать жизней прожить, а нет – так переплыть пять океанов да двенадцать морей. Таков Ермак – донской казак!
– Да ну же, сказывай! Поживее, – говорил Стенька, поближе подсаживаясь к старику.
– Служили мы с Ермаком царю Ивану Грозному. Ермак был родом неизвестный, но душою знаменитый. Все говорят, что родил его Дон Иванович. Жил Ермак на Дону немалое время. Ходили мы с ним на польского короля Стефана Батория и дрались мы, крови не жалея, в Дубровском посаде, под Могилевом. Ходил Ермак Тимофеевич еще Казань-город брать. А я в ту пору ходил Азов-крепость добывать. В Азове, вот за тем валом, турецкий паша, а с ним крымский хан показнили моего сынка старшего – Данилу. Осердившись на это, я с боем взял крепость и перебил в ней многое множество турок да татар. И прислал нам на Дон царь Иван Васильевич за наше храброе дело первую царскую грамоту. А Ермак брал Казань с царем Иваном Васильевичем. Есаулами были у Ермака Асташка, сын Лаврентьев; Гаврилка, сын Иванов; Гаврилка, сын Ильин. И когда велел царь Ермаку Казань-город брать, он такой ответ царю держал:
«Догорит свеча воску ярого в подкопе главном на высокой бочке с порохом, я на приступ Казани-города тотчас пойду вместе с моими славными донскими казаками!» А стоял Ермак Тимофеевич в правой руке с дружиной князя Владимира Андреевича за Казанкой-речкой. И когда взята была Казань, царь сказал Ермаку: «Никто не показал такой храбрости, как ты… За это ты достоин воздаяния». И хотел было царь пожаловать Ермака Тимофеевича городами, селами да большими поместьями, а Ермак ответ держал: «Нет, великий государь! Не жалуй ты меня городами, селами да поместьями, жалуй ты всех нас, донских казаков, батюшкой тихим Доном от вершины всей и до низу. Пожалуй ты нас всеми ближними его реками, протоками, лугами зелеными, лесами густыми, дремучими…» И пожаловал царь нас тихим Доном-рекой до тех мест, где и поныне живем… А как спросят у вас, по какой-де причине и по какому-де делу зоветесь вы казаками – вы молвите в ответ: «По дедушке Ермаку, по донскому казаку!»
Стеньке понравилось это, и он рассмеялся. А Черкашенин досказывал:
– Ходил еще Ермак Тимофеевич в Сибирь. Воевал он Сибирское царство и отдал то царство в подарок царю Ивану Васильевичу. А царь дарил ему со своего царского плеча богатую шубу да железный панцирь. Да не впрок пошел атаману донскому, Ермаку Тимофеевичу, тот подарок царский: ко дну потянул его панцирь, когда переплывал Ермак реку Иртыш… Погиб он, но слава его не сгинет во веки веков.
Стенька допытывался, – далек ли путь в Сибирское царство?
Старик молчал. Он слушал песню Дона.
– А далече ли плыть надобно до Персидского царства? – спрашивал Стенька.
Дед продолжал молчать.
Легкий ветерок срывался со степи. Пенились волны в Дону. С Азовского моря гнало ветром кипучие валы. Трава в степи припадала к земле. Гнулись да поскрипывали ветки деревьев.
Старому атаману Черкашенину казалось, что чей-то далекий, с берегов Иртыша, голос летел сюда, к стенам Азова-города, отвоеванного у турок, приветствуя тихий Дон, приветствуя славу казачью…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Валуйский воевода послал гонца узнать, кто прискакал. Гонец сообщил:
– Татаринов с станицей!
– Поставьте свечи в церкви, – сказал валуйский воевода, – покойник голову везет к царю!.. А ты, гонец, спеши в Оскол, предупреди-ка воеводу.
Гонец переменил коня и помчался в Оскол. В Осколе воевода, расспросив гонца валуйского, тоже сказал:
– Пропала буйная головушка!.. Скачи в Елец! Предупреди!..
Гонец переменил коня и помчался в Елец. Елецкий воевода разгладил бороденку, перекрестился и прошептал:
– Ну, царствие небесное ему, рабу божьему Михаилу!.. Скачи-ка, гонец, во град великий Тулу.
Переменив коня, гонец поспешил пыльной дорогой в Тулу. Там воевода был степенный и рассудительный. Он первым делом спросил:
– Кормили, поили ли атамана в Ельце? Где дали отдых?
– Нигде еды ему не давали! Питья – нигде! И отдыху нигде не бывало. Гонят и коней не меняют, – сказал гонец.
Тульский воевода накормил атамана Татаринова и казаков горячей пищей, дал вина по доброй чарке. Спать уложил. Велел и коней накормить, и просушить седла потные.
– С кем дружбы не вела беда лихая… – говорил сочувственно старик боярин, поглядывая на дорогу, ведущую к Москве.
В Коломне встречал Татаринова со станицей большой отряд стрельцов. Взяли в кольцо, приказали:
– Снимайте самопалы! Сабли – долой! Поедете в Москву под стражей.
Татаринов строго сказал:
– Всем сабли снять. Ружья отдать стрелецким головам. Саблю свою оставлю при себе.
Заспорили с ним стрельцы. Но атамана переспорить не пришлось.
– Ежели вам, стрельцы, – говорил Татаринов, – сабля моя нужна, то берите, а я вернусь назад. А ежели вам и царю нужна голова моя, то моя сабля от моей головы неотделима. Поеду я к царю при сабле.
Въехали казаки на Красную площадь, окруженные стрельцами. Коней завели в Разбойный ряд. Казаков посадили в оковы. А атамана Татаринова под сильной стражей водворили в Посольский двор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
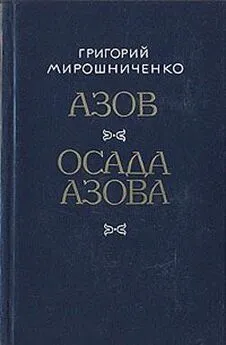

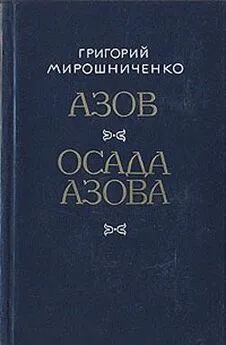
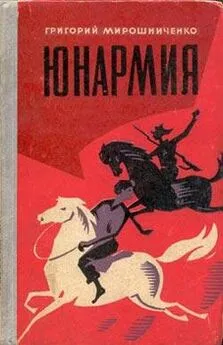
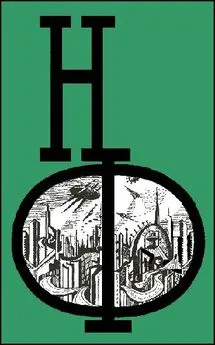
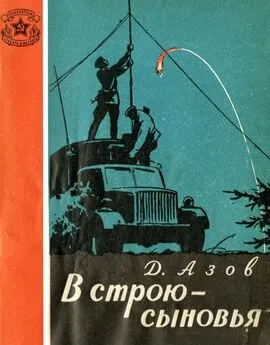
![Олег Куц - Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов]](/books/1099017/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro.webp)

