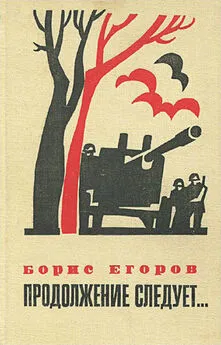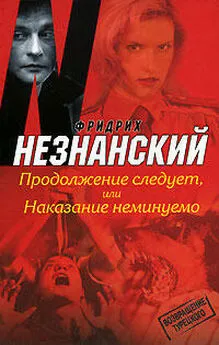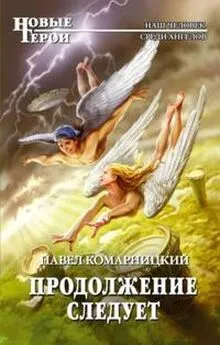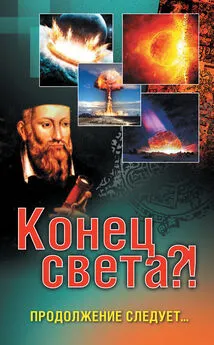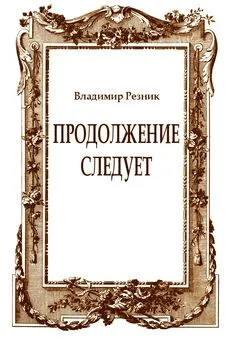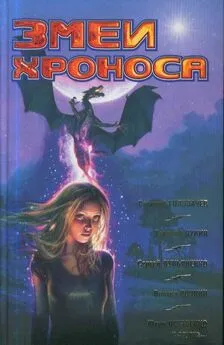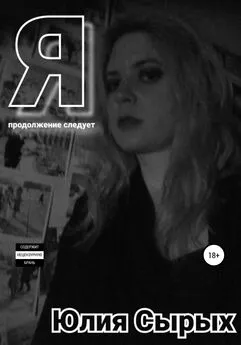Борис Егоров - Продолжение следует...
- Название:Продолжение следует...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Егоров - Продолжение следует... краткое содержание
«Продолжение следует...» — это увлекательный, поэтический рассказ о войне и наших днях, о необыкновенных судьбах людей, о счастье, о месте человека-солдата в строю строителей коммунизма.
Продолжение следует... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помню, я делал однажды доклад о Маяковском — о «Бане» и «Клопе».
Потом прошли годы. После войны оканчивал вечернее отделение филологического факультета МГУ и писал дипломную работу о... «Бане» и «Клопе».
...А наши чтецы выступали перед всей школой — на больших вечерах, где были как учащиеся, так и их «дамы». Среди чтецов был даже один лауреат Московского городского конкурса. С отчаянной увлечённостью и трагическим накалом читал он «Песню про купца Калашникова»:
Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
В летних лагерях мы ходили на артиллерийский полигон, на стрельбы. Практиковались в топографии и тактике. Изучали устройство полковой пушки, станкового пулемёта, винтовки, пистолета. Достигшие артистизма разбирали и собирали их с закрытыми глазами.
С одного занятия на другое шли с песней. Песня требовалась обязательно. Пели удалую «Махорочку», «Три танкиста» и ранее мне неизвестную: «Джим, подшкипер с английской шхуны...»
В нашем взводе запевалой был Алексей Куликов, нежнолицый парень с румянцем на щеках, обладатель приятного тенора.
Пение было его стихией, как для Федотова математика и для Строганова живопись.
В лагерях — в солдатском быту, в военных играх и походах — испытывалась наша дружба. Здесь навсегда стали моими товарищами Юра Королёв, Лёша Соловьёв, Володя Щеглов.
Дружили и со старшеклассниками. Они были нашими наставниками. Замполитом «батареи двадцать четвёртого года» назначили Александра Долгова. На петлицах — четыре треугольничка и комиссарские звёзды на рукавах.
Белов и Мамленов школу давно уже окончили, сменили звание «товарищ учащийся» на «товарищ курсант».
Была наша батарея третьей, стала первой — выпускной. Снова поехали в лагерь — и... сигнал тревоги. По тревогам, по частым беспокойным сигналам трубы, мы поднимались в лагерях множество раз. Тревоги всегда оказывались учебными. Но на этот раз мы выстроились и нам сказали: «Война...»
Глубокой осенью сорок первого школа эвакуировалась в Сибирь. Доучивались, сдавали экзамены, а потом отправились в артучилище. В Одесское. Находилось оно на Урале, в тихом, маленьком городке.
Осталось в памяти жаркое, пыльное лето, осень, размесившая на дорогах глину. Столько липкой, вязкой глины, словно свезли её сюда со всего света!
Ещё месяц — два, и дороги стали проезжими, а на внутренних сторонах стен деревянных бараков, где мы жили, начал расти лёд.
С шести утра и до одиннадцати вечера — от зарядки и обтирания колючим уральским снегом и до того момента, когда ложились в такие же холодные и колючие, как снег, постели, — занятия.
Слушали лекции, ворочали пушки в артиллерийском парке, писали контрольные, учились водить газик, разматывали катушки с телефонными проводами, шагали по полям с теодолитом и мерными лентами, выстукивали морзянку ключом радиостанции, чистили и лелеяли личное оружие, корпели над планшетами, вооружившись циркулями, хордоугломерами и таблицами стрельб, ходили в наряды и караулы, наносили смертельные штыковые удары по чучелам фашистов, томились в противогазах в «химические дни», хрустели сухарями в дни «сухие», и наконец 17 февраля 1943 года нам выдали лейтенантские кубики.
«Ох, господи, сержанты теперь для нас не начальники! На какой фронт пошлют? Хорошо бы так, чтобы через Москву. Хоть на час забежать домой».
В письмах родителям все москвичи обещали: «Окончу училище — обязательно ждите...»
Родных посчастливилось увидеть только тем, кто был направлен на север и запад: их путь пролегал через Москву.
На других конвертах, в том числе и на моём, стоял штамп — «Юго-Западный фронт».
Влезли в вагоны новоиспечённые офицеры и не по воле своей черепашьим ходом доехали до Рузаевки. А в Рузаевке нас поставили на прикол: все пути забиты.
Стоят составы теплушек. Стоят эшелоны с орудиями и танками. Санитарные поезда. Цистерны. Пульманы с лошадьми. Платформы с понтонами, с разобранными самолётами.
Стоят товарные вагоны с зарешеченными оконцами — для военнопленных. В оконцах — небритые физиономии.
Проходят мимо солдаты с котелками, с углём в вёдрах, кивают в сторону небритых:
— Довоевались, сволочи!
Где-то мечутся затурканные маневровые паровозики, гудят беспомощно. Диспетчер кроет по радио сцепщиков и машинистов. Кроет, не думая о том, что его слышат не только закалённые танкисты, но и неискушённые в жизни, нежные на ухо девушки из санитарных эшелонов.
Стелется над станционными и сортировочными путями едкий дым кочевья. Жгут в «буржуйках» вагонов всё, что попало, кроме рельсов, которые не горят. Вся Россия, кажется, стала здесь на великий бивуак перед наступлением.
Жевали солдаты пшённый концентрат и ждали своей судьбы. А когда не было концентрата, шли на базар покупать варенец. Попробуешь варенец у одной торговки, у другой, у третьей, пятой... девятой — вроде бы и покупать не надо. Достаточно. Тем более и деньги на исходе.
Охотились за газетами. Где Рузаевка наберёт газет на такую прорву народа?
Ходили без конца к военному коменданту. С одним и тем же вопросом: «Когда же?». Комендант смотрел на нас воспалёнными немигающими глазами, он был в прострации. Отвечал одно и то же:
— Вы у меня не одни. Всех растолкаем.
Наконец однажды какая-то ночная сила без гудков и предупреждений вырвала нас из рузаевского плена. И понесла. Так что железная печка набок упала.
Радость была короткой. Где-то за Пензой вагоны у нас отобрали. Наши собственные вагоны, заказанные училищем.
Сказали: «Добирайтесь до фронта сами». А как добираться? В эшелоны чужих не пускают.
Мне посчастливилось незаметно залезть под автомобиль с красным крестом в санитарном поезде.
Так я держал путь на юго-запад. Около моего уха стоял сапог часового. Часовые сменялись, докладывали, что ничего не произошло. А я лежал на животе. Ах, какой небдительный народ санитары!
Правда, один сказал:
— Ты, который внизу, не вылезай, когда разводящий придёт!
Потом санитарный эшелон стал. Я вылез из-под машины, спрыгнул на насыпь и увидел всех своих товарищей — юго-западников. Каждый как-то прилип к этому эшелону.
Ехали к штабу фронта. Голосовали на шоссейках и грейдерах, ловили попутные машины. И ЗИСы, ГАЗы, «студебеккеры» и «доджи» всегда останавливались. На фронте водители добрые, сердечные. Встречались, конечно, и злые, бездушные. Но тормозили и они: не остановишься — шарахнет кто-нибудь из автомата по скатам, и будешь загорать целые сутки.
Мы побывали в начисто разрушенных Лисках, Острогожске, Старобельске, Сватове. Искали штаб. Говорили нам разное. Больше бдительно молчали.
И всё же мы нашли белую хатку, в которой приняли наши пакеты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: