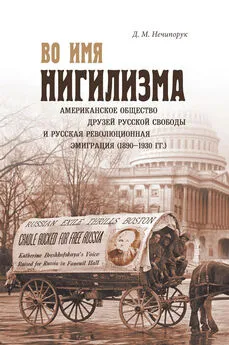Сергей Смирнов - Дальневосточный тупик: русская военная эмиграция в Китае (1920 – конец 1940-ых годов)
- Название:Дальневосточный тупик: русская военная эмиграция в Китае (1920 – конец 1940-ых годов)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-5320-8798-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Смирнов - Дальневосточный тупик: русская военная эмиграция в Китае (1920 – конец 1940-ых годов) краткое содержание
Дальневосточный тупик: русская военная эмиграция в Китае (1920 – конец 1940-ых годов) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Семеновцы» (особенно в их офицерском составе), также как представители других ранних антибольшевистских формирований, имели ряд характерных черт. Многие из них были людьми удивительной храбрости, кавалерами высоких боевых наград вплоть до ордена св. Георгия IV ст. и Георгиевского оружия, воспитанными и жившими войной, при этом нередко не лучшими представителями русского офицерства [55]. Но главное, большинство из них объединяло крайнее неприятие власти большевиков, не вполне четко очерченного для них, но эмоционально окрашенного олицетворения зла, главную причину развала армии и превращения офицерства в маргиналов, зависимых от произвола новых властей.
Обосновавшись на ст. Маньчжурия, «семеновцы», несмотря на свою малочисленность, приступили к разоружению и вытеснению в Забайкалье, находившихся на западной ветке КВЖД ополченческих дружин и железнодорожных частей [Семенов, 2007]. По приказу Семенова в январе 1918 г. есаул Унгерн был назначен комендантом Хайлара. Новоиспеченный комендант встретил бойкот со стороны находившихся там русских офицеров и местных частей, поддержал Унгерна только штабс-ротмистр Межак, перешедший со своей сотней на сторону «семеновцев». Столкнувшись с неподчинением, Унгерн во главе с несколькими бойцами разоружил Хайларский гарнизон и даже попытался распространить свое влияние на соседнюю станцию Бухэду, но был здесь арестован прибывшими китайскими войсками. Теперь атаману Семенову пришлось договариваться с китайцами [Барон Унгерн, 2004, с. 291]. В результате достигнутой договоренности атаман сохранил контроль над ст. Маньчжурия и сильное влияние в Хайларе.
Формирование Особого Уссурийского отряда началось на ст. Пограничная в марте 1918 г. после того, как 5-й Войсковой круг Уссурийского казачьего войска отказался признать подъесаула Калмыкова войсковым атаманом и тот, опасаясь ареста, был вынужден бежать на территорию Маньчжурии. На ст. Пограничная Калмыков объявил о мобилизации уссурийских казаков для борьбы с советской властью и создании своего отряда. В формировании ОКО вместе с Калмыковым приняли участие хорунжие П.Н. Былков и А.П. Эпов [Савченко]. В июне 1918 г. к Калмыкову присоединился бывший командир взвода 1-й роты полковника Орлова поручик А.А. Осьминкин [56], возглавивший 1-ю пластунскую сотню ОКО [Буяков, 2015, с. 432]. С мая 1918 г. отряд Калмыкова начал набеги на советскую территорию, в связи с чем советские власти вынуждены были развернуть против калмыковцев т. н. Гродековский фронт.
Отряды Семенова и Калмыкова с самого начала своего создания оказались в сфере внимания представителей союзного (Антантовского) командования на Дальнем Востоке, особенно японцев. Японцы проявили интерес к есаулу Семенову еще в начале 1918 г. По заданию японского Генштаба изучить личность Семенова и его возможности в борьбе с большевиками было поручено подполковнику Куросава Хитоси, начальнику харбинской резидентуры. В ходе встреч Куросавы и забайкальского есаула выяснилось, что Семенов питает надежды на помощь со стороны японцев. Кандидатуру Семенова, в качестве антибольшевистского деятеля, которому стоило бы оказать помощь, поддержали генерал-майор Накадзима Масатакэ, сменивший Куросаву на посту главы харбинской резидентуры, и Нисихара Камэдзо, один из самых влиятельных японских предпринимателей на Дальнем Востоке, тесно связанный с разведкой. К концу февраля 1918 г. правительство Японии приняло решение об оказании помощи Семенову. Вскоре в семеновский штаб прибыли девять японских офицеров, занявших посты советников и инструкторов. Подполковник Куросава лично курировал Семенова в Харбине. Резидент японской разведки Андзё Дзюнъити занимался рекрутированием японцев в ОМО. К апрелю 1918 г. в отряде насчитывалось 346 японских военнослужащих запаса от офицеров до рядовых [Полутов, 2012, с. 75, 76].
Внимание японской разведки к Калмыкову было проявлено благодаря рекомендации японского агента Алексина. В феврале 1918 г. генерал Накадзима пообещал помощь Калмыкову и командировал из Владивостока в Иман капитана Ёко Нориёси, который безуспешно пытался оказать влияние на Войсковой круг Уссурийского казачьего войска в деле избрания Калмыкова войсковым атаманом. В дальнейшем капитан Ёко осуществлял связь с Калмыковым посредством разведывательного пункта Корейской гарнизонной армии на ст. Пограничная [Зорихин, 2015, с. 9]. Нужно отметить, что японские разведывательные органы, в частности Японская военная миссия (ЯВМ), прилагали большие усилия по созданию разведсети из русских сотрудников, вербуя их из числа офицеров и гражданских лиц. В 1921 г. ежемесячные выплаты японским агентам составили более 2 тыс. иен, разовое вознаграждение русским подданным колебалось от 30 до 150 иен. По неполным данным, к 1922 г. численность японских агентов в Маньчжурии и на российском Дальнем Востоке из числа русских, китайцев, японцев и корейцев составляла около 4 тыс. человек [Полутов, 2012, с. 79].
Всем добровольческим антибольшевистским формированиям были присущи некоторые черты, роднившие их с «запорожской вольницей», – отсутствие строгой воинской субординации, не очень высокая дисциплина, не вполне законные реквизиции. Но ведь и само понятие законности было поставлено революцией под сомнение. Несмотря на схожесть черт, каждый из этих отрядов имел свои особенности, свой уровень «вольницы» [57], что зачастую игнорировалось в оценках некоторых представителей Белого лагеря, не говоря уже о советской пропаганде, усиленно демонизировавшей зарождавшееся антибольшевистское сопротивление. Тот же генерал Будберг, крайне негативно относившийся к «отрядам спасителей родины под фирмами Семенова и Орлова», называл их самыми анархическими организациями, «так как для них не существует никаких законов и слушаются они только тех, кто дает им деньги, и до тех пор, пока дает…», а их командиров – «своего рода винегретом из Стенек Разиных двадцатого столетия под белым соусом», «послереволюционными прыщами Дальнего Востока» [Будберг, 1924, т. 13, с. 197].
И здесь не только личное отношение генерала. В данном случае мы видим обнаружившееся уже в начале Гражданской войны напряжение и даже конфликт между теми военными (преимущественно офицерами), кто по разным причинам встали на путь безоговорочной борьбы с большевиками [Гребенкин, 2015, гл. 13], и теми, кто, не питая к большевикам теплых чувств, тем не менее, были негативно настроены в отношении т. н. «белого большевизма», предпочитали ни во что не вмешиваться и ждать. Как показывают современные отечественные исследования, представителей второй группы было большинство. В конце 1917 – начале 1918 гг. менее 3 % из состава 250-тысячного корпуса офицеров Российской армии приняли участие в противостоянии советской власти [Там же, с. 436].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
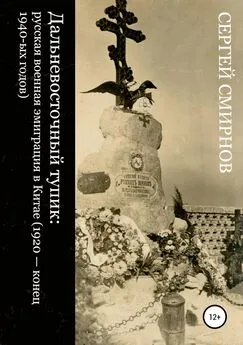
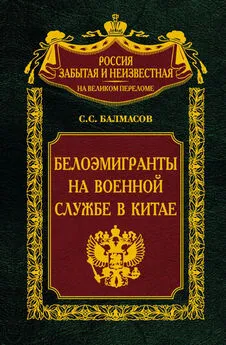
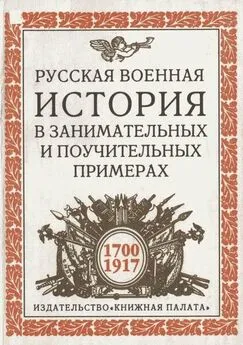
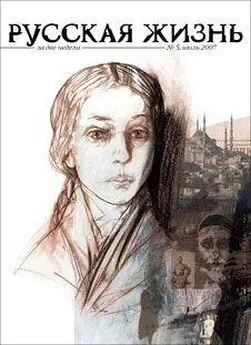
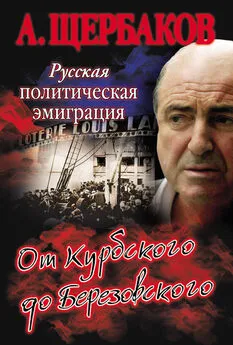



![Эйке Миддельдорф - Русская военная кампания [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060454/ejke-middeldorf-russkaya-voennaya-kampaniya-opyt-vt.webp)