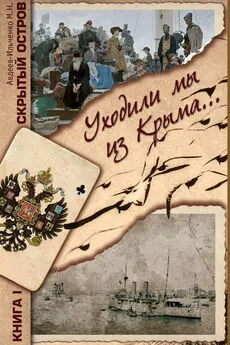Михаил Авдеев - У самого Черного моря. Книга II
- Название:У самого Черного моря. Книга II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДОСААФ
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Авдеев - У самого Черного моря. Книга II краткое содержание
Автор этой книги — Михаил Васильевич Авдеев — известный морской летчик. В авиацию пришел в 1932 году. Великую Отечественную войну встретил в Крыму заместителем командира эскадрильи, через год стал командиром полка: талантливые офицеры всегда быстро поднимались по должностным ступеням. В жестоких воздушных боях сбил 17 вражеских самолетов. Познал горечь отступления и радость побед. Дрался за Севастополь, Перекоп, участвовал в освобождении Кавказа, войну закончил в Болгарии. Летчики полка, которым командовал М. В. Авдеев, сбили 300 вражеских самолетов, совершили около 1500 вылетов на штурмовку. За боевые успехи полк преобразован в гвардейский, дважды награжден орденом Красного Знамени, получил наименование Севастопольского. После войны, окончив Академию Генерального штаба, генерал Авдеев занимал ряд ответственных должностей в авиационных соединениях. Военный летчик 1-го класса. Летал на сверхзвуковых истребителях. В настоящее время М. В. Авдеев находится в запасе, активно участвует в общественной жизни, часто выступает перед молодежью фабрик, заводов, учебных заведений. В 1968 году в Издательстве ДОСААФ СССР вышла документальная повесть М. В. Авдеева «У самого Черного моря», рассказывающая о героических подвигах защитников Севастополя. Во вступлении к книге говорилось: повесть — «начало большого повествования, задуманного автором». И вот перед вами — продолжение этого волнующего рассказа.
У самого Черного моря. Книга II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Настроение испортилось, когда начали прикидывать операцию в деталях. Чтобы «достать» Берлин, нам нужно семь часов темноты. Лететь через всю территорию Германии в дневное время — безумие. Нас сбили бы, прежде чем мы увидели окраины фашистской столицы. К тому же, семь часов — предел для наших ДБ-3. Возвращаться придется, что называется, на честном слове. Но не отказываться же от полета.
В конце концов задачу перед экипажами сформулировали следующим образом. Хохлов вынул из планшета блокнот, нашел нужную страницу. «Взлет произвести засветло. Идти на самой малой высоте, стараясь незаметно проскочить систему обнаружения противника и избежать встреч с истребителями, которые могут нас атаковать с аэродромов Латвии, Эстонии, Литвы. При возвращении с боевого задания — время опять падало на день — идти со снижением на повышенной скорости…»
Что будет, если аэродром Эзеля закроет туман, об этом мы старались не думать. До Ленинграда нам не дотянуть. Так что оставалось надеяться только на удачу и мастерство экипажей.
В ночь с седьмого на восьмое августа 1941 года мы были в полете.
Сейчас трудно рассказывать о том, что мы переживали. Скажу одно — остановить ребят смогла бы только смерть: столько ненависти было в их глазах, такая решимость написана на лицах.
Один даже высказал вслух то, о чем думали тогда втайне, наверное, все: «Главное — чтобы мои бомбы легли на Берлин. Все остальное — неважно. Вернемся мы обратно или нет — это уже вопрос второстепенный. Главное — долететь!»
«Главное — долететь!» — Все мы жили только этой мыслью.
Идем по Балтике. Курс — на Штеттин. Вроде бы пока все идет хорошо: береговую оборону миновали, ночных истребителей не встретили.
Только ночь — предательски светла. Луна — как на поздравительных открытках. Стараемся прятаться за облаками. Но не всегда это удается — сплошной облачности нет.
Вероятно, основную роль здесь сыграла самоуверенность гитлеровцев. Им и в голову не могло прийти, что советская авиация осмелится появиться над территорией Германии.
Дело дошло до того, что над Штеттином немцы явно приняли нас за своих: аэродром включил ночной старт, гостеприимно предлагая посадку.
Одним словом, на нервах, но дошли.
С любопытством рассматривают ребята гитлеровскую столицу. Она затемнена, но уличные фонари, четко обозначая контуры улиц, почему-то горят. Искрят трамваи. Все видно как на ладони.
Рассредотачиваемся. Каждый ищет свой объект. И мы по трубам находим свой — военный завод.
Теперь — пора! Нажимаю кнопку бомбосбрасывателя. Ребята потом мне говорили, что при этом я самозабвенно орал: «Это вам, сволочи, — за Ленинград! А это — за Москву!».
— Передавай! — кричу стрелку-радисту Володе Кротенко.
И вот мы выходим в эфир: «Мое место — Берлин. Задачу выполнили, возвращаюсь обратно».
А внизу — море огня. Рушатся цеха. Горят здания. Небо взбесилось: прожектора, взрывы зенитных снарядов…
Меняем курс, скорость, высоту. Где-то рядом с включенными фарами проносятся ночные истребители. Сейчас главное — дотянуть до моря. Маневрируем. По машине бьет град осколков… Но, кажется, уходим…
Волнуемся за товарищей — как там они: разобрать что-либо в ночной круговерти боя попросту невозможно. Выходим на свой аэродром. Садимся. Нас качают!.. Самое удивительное началось утром. Радист приносит сводку берлинского радио: «В ночь с 7 на 8 августа крупные силы английской авиации пытались бомбить нашу столицу. Действиями истребительной авиации и огнем зенитной артиллерии основные силы авиации противника были рассеяны. Из прорвавшихся к городу 15 самолетов — 9 сбиты».
Мы смеялись. Кто-кто, а мы-то уж точно знали: летало всего пять машин. И все мы вернулись…
Ждали реакции Лондона. Она последовала немедленно: «Сообщение Берлина — фальшивка. Английская авиация вследствие крайне неблагоприятных метеоусловий в ночь с 7 на 8 августа в воздух не поднималась…»
В следующую ночь мы повторили удар по Берлину. А потом еще раз… Лишь 12 августа гитлеровцы пришли в себя, поняли, откуда приходит в их столицу крылатая смерть.
Аэродром наш превратился в ад: десятки раз на дню появлялись над ним гитлеровские пикировщики. Но и в этих условиях мы продолжали летать. Сорок суток дрожала земля Берлина от советских бомб.
Страна тогда высоко оценила наши действия. Все участники полета на Берлин были награждены. Преображенский, Плоткин, Гречишников, Ефремов, Фокин стали Героями Советского Союза. Я тоже был удостоен этой великой награды…
Петр Ильич корчил свой рассказ в тишине. Все молчали, пораженные повествованием о подвиге, совершенном не какими-то чудо-богатырями, а такими вот, как этот, стоящий сейчас перед нами человек с мягкой, доброй улыбкой.
— Эх, нам бы… сокрушенно вырвалось у кого-то.
— Ваше время придет, — улыбнулся Хохлов. — Очень скоро придет, ребята… Наш праздник не за горами…
Как хотелось тогда в это верить! Наутро Петр Ильич уехал.
Несколько раз судьба еще сталкивала нас на фронтовых дорогах, а потом мы как-то потеряли друг друга из виду. И только после войны встретились снова. Передо мной стоял генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза Петр Ильич Хохлов. Русский солдат, крылатый сокол, доказавший еще в начале войны, говоря словами отца флота российского Петра, что «небываемое бывает».
«Сохранить танкер во что бы то ни стало…»
Деятельность замечательного летчика и командира Денисова не случайно попала в поле зрения Василия. О боевых делах Денисова и «его орлов» говорил весь флот. Имя это не сходило со страниц фронтовой, да и не только фронтовой печати.
Все более и более важные задания становились ему по плечу. И об одном из них мне хочется рассказать здесь словами моего друга. Подробности здесь столь примечательны, что мне не захотелось отступать от живой правды повествования, на которое Денисов решился после долгих и настойчивых моих просьб и уговоров… Вот это его письмо.
«Отступая из-под Орджоникидзе под ударами наших войск, немцы разрушили железную дорогу. Для подобных целей они создали специальные машины, которые взламывали шпалы на всем протяжении пути. В этих условиях подвоз горючего нашим наступающим на север наземным войскам и авиации резко осложнился и это в самое ближайшее время могло замедлить ход наступательных действий войск.
И вот было решено в период 24–27 июня 1943 года осуществить проводку из Батуми в Туапсе танкера „Иосиф Сталин“, вмещающего в себя свыше 14 тысяч тонн бензина. Задача была исключительно важной: в случае успешного ее выполнения обеспечивалась горючим вновь планируемая наступательная операция наших войск. Кроме того, в этот период велось крупное воздушное сражение над Кубанью и для нашей авиации также нужно было горючее. Понятно, что если танкер будет потерян, то войска и авиация не получат столь нужное горючее, а флот потеряет крупное наливное судно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
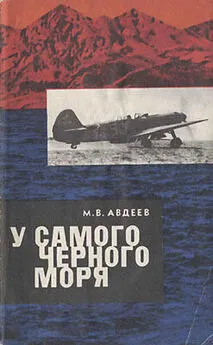

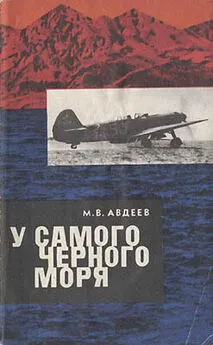
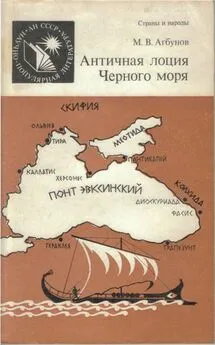

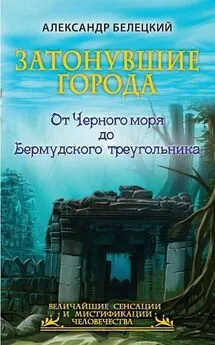
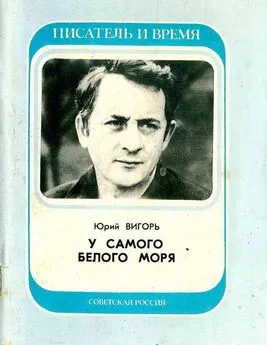
![Валерия Комарова - У самого синего моря [litres]](/books/1146802/valeriya-komarova-u-samogo-sinego-morya-litres.webp)