Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956
- Название:Незабываемое.1945 - 1956
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956 краткое содержание
Воспоминания Н. Н. Краснова-младшего. Материалы по трагедии казачества накануне, во время и по окончании 2-й мировой войны.
Для автора «Незабываемого» — донского казака, офицера армии Югославии — советско-германская война 1941-45 гг. стала продолжением гражданской, продолжением борьбы за свободную Россию.
Воспоминания Николая Краснова-младшего посвящены событиям, до сих пор остающимся малоизвестными современному российскому читателю — предательской выдаче англичанами по окончании 2-й мировой войны в СССР на расправу десятков тысяч казаков.
Автор — единственный из семьи Красновых, кто сумел пройти все ужасы ГУЛАГа и вырваться в свободный мир. Помогло выжить обещание, которое он дал в 1945 году своему деду: рассказать, миру правду о предательстве «союзников», о трагической участи преданных, о том, во имя чего взяли казаки оружие.
В России книга издается впервые. Для российского читателя составитель посчитал необходимым дополнить издание материалами о причинах, толкнувшие огромное число казаков на вооруженную борьбу с Красной армией в составе германского Вермахта, об истории формирования казачьих частей, а также кратким описанием жизни Н.Н.Краснова после освобождения (на основании его переписки с кубанским атаманом В.Г. Науменко).
Издатели сердечно благодарят тех, без кого это издание не состоялось бы: за финансовую поддержку — ветерана 5-ю Донского полка 15 ККК Николая Семеновича Тимофеева, ООО «Буроввик» (Москва) и его руководителей — Александра Всеволодовича Никольского и Евгения Анатольевича Хохлова; за предоставленные фотоматериалы — Товарищество ветеранов 15 ККК (ФРГ) и его представителя в Москве — В.В. Акунова; Михаила Леонидовича Васильева (Франция) — сына донского генерала, выданного в Лиенце н погибшего в ГУЛАГе: а также Наталию Вячеславовну Назаренко-Науменко (США) дочь кубанского атамана; редакционную коллегию и авторов газеты «Станица» (Москва).
Незабываемое.1945 - 1956 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Та же история с колбасой. Навязывать вам не навязывают, но до тех пор не пускают один сорт, пока не пройдет другой. Выбора нет. Может быть, пока одна продастся, другая заплесневеет, тогда ее вытрут тряпкой и «своевременно» пустят в продажу. Покупатель должен ее взять, т. к. другой нет.
Тогда заводишь «блат». Я обзавелся таким.
— Здрасьте, Таня!
— Здрасьте! Вам чего понадобилось заиметь?
— Конфет по 6 рублей.
За мной стоят другие покупатели.
— Нет, гражданин. Вообще, конфет нет. Будут завтра по 12 рублей. Вижу — подмигивает незаметно. Иду к двери, а Таня, как бы спохватившись, кричит:
— Николай Николаевич, вам записку тут кореши оставили. Подождите, принесу.
Уходит в склад за магазином. Возвращается. Записка в руках. Выхожу и читаю: «Завтра будут конфеты. Приходите, как будто за забытым пакетом. Раньше отвешу и дам. А у меня к вам просьба. Сделайте для дочурки такую же картинку — лес, медведь и медвежата, какую я у инженера видела».
Вот и «блат». Быстро вечером малюю масляными красками, больше по фантазии, Шишкинский лес и на следующий день прихожу. В магазине очередь Таня, увидев меня, говорит:
— Эй, там, сзади! Николай Николаевич, что ж вы вчера заплатить заплатили, а пакет взять забыли!
Вне очереди подхожу и беру конфеты. Протягиваю завернутый в бумагу «лес» и говорю:
— Прошу, если Вася забежит, передайте ему этот пакет. Он говорил, что сегодня за чаем придет. Можно?
— Ладно!
Сделка сделана. К картине прикреплено зажимкой 12 рублей. У меня конфеты к чаю, у Таниной дочки картинка, а государство не потеряло своих 12 рублей. Однако, если бы Таню поймали на том, что она вне очереди пустила человека, да еще из заключенных, и дала ему дешевый товар, пока дорогой не прошел — она бы отвечала. Арест. Суд. Лагерь. Риск, конечно, не малый!
Все то, что я видел и о чем пишу, является советским бытом отразившимся в капле воды. Широкого горизонта у меня нет, но мне говорили, что Чурбай-Нура — подобно всему незыблемо существующему по всей Сибири и по всем окраинам СССР.
Вот какое впечатление я вынес от стандартной квартиры рабочего, квартиры в две комнаты. Бывал я у многих, но все впечатления слились приблизительно в эту форму.
В одной из комнат— спальня. Комната не большая. На одной кровати брачная пара, на другой двое ребят. Обстановка сборная. Нагромождение предметов. Большинство — кустарная работа самого главы семьи. Обязательно громадный кованый сундук. Редко детская кроватка. Стол, он же и письменный, и рабочий, и обеденный. Пара табуретов, редко стульев. Этажерки. Полочки. Шкаф для одежды или вешалки, прибитые к стене и покрытые простынями. Масса фотографий. Так снимались и при царе. Те же деревянные позы, те же глупо напряженные лица. Рамки аляповатые. Русские люди любят картины и картинки. Иной раз вся стена вместо обоев облеплена цветными иллюстрациями из журналов. Если поблизости завелся «художник» вроде меня, осаждают просьбами. Нарисуешь одному «девочку с аистом» — все хотят такую же. Вторая комната почти всегда «под квартирантами». Там две — три простых кровати или топчаны. Табуретки, вместо ночных столиков. Какой-нибудь комод и вешалки на стене. Украшают ее сами квартиранты, теми же фотографиями и вырезанными иллюстрациями.
Побывал я и в таких домах, в которых две — три семьи пользуются одной кухней. Там жизнь неудобна, полна дрязг и недоразумений, и держать квартирантов просто невозможно.
Каждый, конечно, стремится жить в маленьком отдельном домике. В больших невозможно держать домашнюю птицу и другую живность. Маленький всегда имеет небольшой огородик, в котором произрастает картофель, и, при особам уходе, выращивается редиска и лук. По садику гуляет наседка с желтенькими пушками-цыплятами, громадный сибирский, горластый петух, иной раз коза и, конечно, невымирающие русские «Жучки», «Полканы» и «Арапчики».
Шахтеры, прожившие в Чурбай-Нуре пять лет, обзавелись уже и коровкой и свиньей. К этому благосостоянию стремится каждый.
Все население городка вечно мечется и чего то ищет. В дни, свободные от работы, люди обмениваются визитами, не только для того, чтобы «жахнуть 200 граммов», т. е. выпить с дружком водки под селедку или редкий в тех краях огурец. Главной причиной посещений служит «доставание» необходимого: пары гвоздей, винтиков, немного столярного клея, краски, кисти для побелки взаймы. Забот ведь много, подручного материала нет. Вот и обмениваются. Один притащит мешок угля, а другой ему за это даст гаек и винтов, чтоб скрепить новый топчан, баночку краски и электрического провода метра три.
«Достать» пожалуй, легче, чем купить. К тому же, «достают» из «дядиного» имущества, благо «он» далеко. «Достает» и полковник МВД, и только что освободившиеся бывшие заключенные. Последние — самые активные. Начинают с азов. Ни кола — ни двора. Ими управляет острый голод. Голод семейный. Голод собственника. Первая табуретка в доме так же дорога, как и первый сын. Браки между «контриками» не всегда идеальны. Вина, большей частью, лежит на женщинах. Лагерь их распустил, и обычно они очень легко смотрят на половую жизнь. Однако, я встречал семьи, слепленные из обломков двух жизней, потерпевших крушение, двух людей, отсидевших десять, бывало и больше, лет в лагерях. Они друг в друге души не чают и живут только для дома и детей.
Обычно это или сугубые интеллигенты, или совсем простые и нетребовательные колхозники, для которых какой-нибудь Чурбай-Нура — рай земной, т. к. возвращение к прежним пенатам равносильно голодной смерти и новой каторге.
Детей в Чурбай-Нуре полчища. Свою роль сыграло запрещение абортов. Правда, государство за десять лет насытило свой аппетит и было удовлетворено приростом населения, и в 1955 году мотивированные аборты опять вошли в силу. Причины — разные. На первом месте болезнь, но и бедность принимается во внимание. Довольно двух ребят, говорят там. Все же я заметил, что бывшее заключенные считают детей действительно Божьим благословением. Все маленькие, орущие — Машки, Тольки, Жоры и Вероньки — пользуются всеобщей любовью и вниманием.
Я уже упомянул о том, что в Чурбай-Нуре я встретился с неизвестным мне до тех пор элементом, о котором я только читал, но личного знакомства не имел — с бывшими семеновцами, каппелевцами и анненковцами (были и другие «фракции»), которые попали в СССР приблизительно в наше время, т. е. в 1945 году, или немного раньше.
Хотя они, конечно, далеко не все были из Харбина, но у нас их называли «харбинцами» или «манчжурцами». Большинство из них были казаки, хорошие, крепкие мужики и ребята. Большинство кончало свой срок, а некоторые уже были «свободняками». Они в те дни переживали особые волнения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
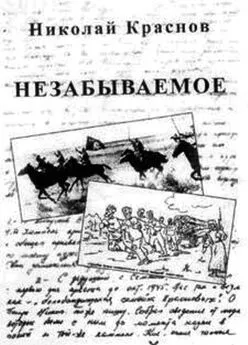

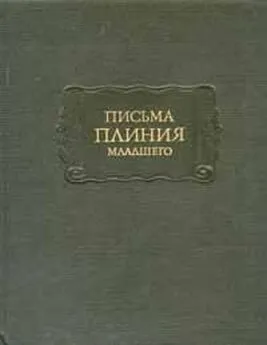
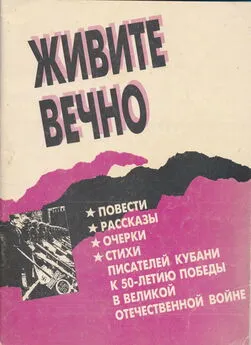
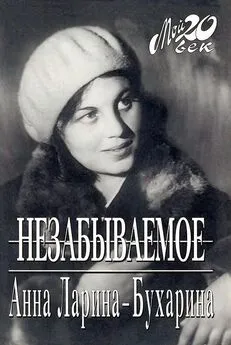
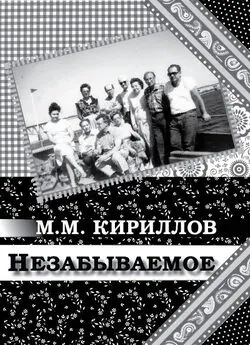
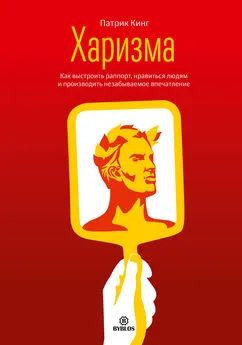
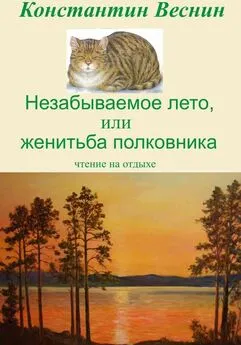
![Николай Краснов - Рус Марья [Повесть]](/books/1082559/nikolaj-krasnov-rus-marya-povest.webp)