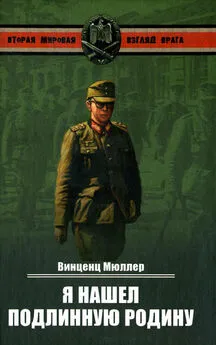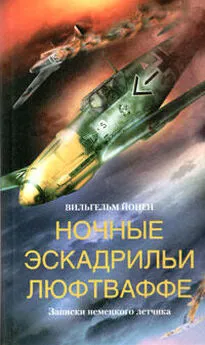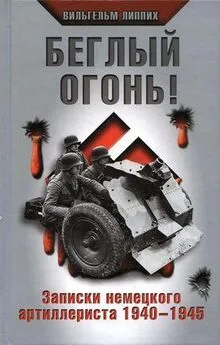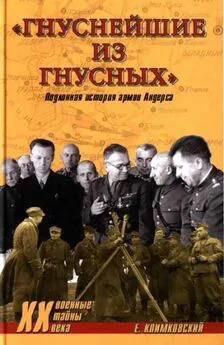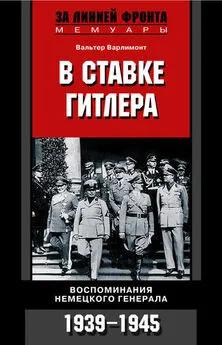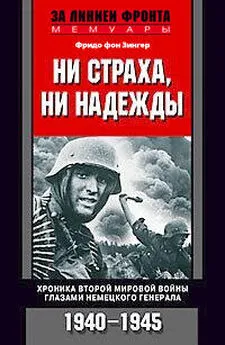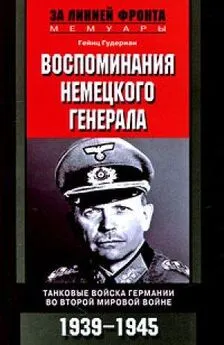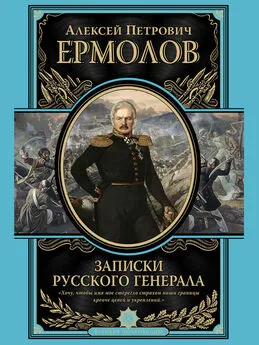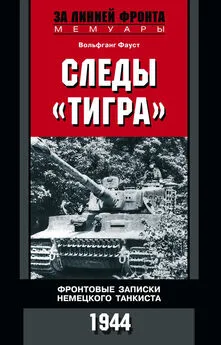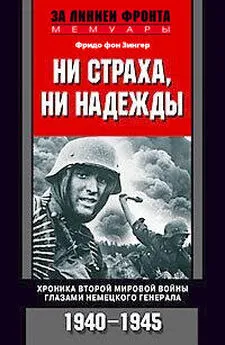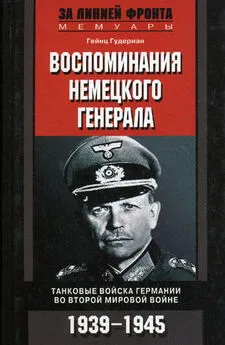Винценц Мюллер - Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала
- Название:Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-5067-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Винценц Мюллер - Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала краткое содержание
Летом 1944 года генерал-лейтенант вермахта Винценц Мюллер, командовавший 4-й полевой армией, был вынужден капитулировать перед окружившими ее частями Красной Армии. В плену он вступил в Национальный Комитет «Свободная Германия», а после образования ГДР стал генерал-лейтенантом Национальной Народной Армии. В 1961 году Мюллер покончил жизнь самоубийством, оставив после себя незавершенные интереснейшие мемуары, в которых подробно рассказана история зарождения вермахта.
Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Моя мать, навещавшая меня в госпитале, казалась очень озабоченной. Она осторожно намекала на все усиливающееся недовольство баварского сельского населения и на рост нуждаемости в городах. Когда мне стало лучше, пришел и отец. Он был откровеннее. Переносить войну становилось все труднее. В Баварии, особенно в его избирательном округе, были деревни, насчитывавшие 300–400 жителей, из числа которых уже погибли до двадцати и более человек. В деревнях не хватало рабочей силы, чтобы вовремя убрать урожай. В результате недостаток продовольствия усугублялся еще больше. Между баварцами и пруссаками возникли серьезные расхождения, так как баварцам приходилось отдавать слишком много продовольствия для Северной Германии. Кроме того, баварцы и пруссаки спорили между собой из-за дележа Эльзас-Лотарингии. Причиной этих трений являлась будто бы баварская королева, по происхождению австрийская эрцгерцогиня, страдавшая, видимо, манией величия. Правительству следовало бы также сделать заявление о будущем Бельгии, так как иначе, как показывают ответы наших противников на мирное предложение Германии и ее союзников в начале декабря 1916 года, не дождешься мира. И уж совершенно непонятно, зачем понадобилось осенью 1916 года провозглашение Польского королевства, скроенного из захваченных русских территорий. Сильно волнуясь, отец еще долго говорил о несправедливом распределении продуктов и предоставлении отпусков солдатам, о неправильных отсрочках от призыва в армию и о разных других явлениях, которые раздражают людей и на которые ему часто жалуются как депутату ландтага. Главной темой всех разговоров, которые я вел в госпитале с офицерами, солдатами и посетителями, были нужда и лишения населения.
Напряженность внутренней жизни Германии усилилась еще более после пасхального манифеста кайзера от 7 апреля 1917 года. В нем кайзер обещал отменить после войны трехклассное избирательное право в Пруссии, основывавшееся на размерах обложения налогом и потому предоставлявшее преимущества тем прусским гражданам, которые платили более высокие налоги, то есть имели больше имущества и доходов, что обеспечивало их преимущество в прусском ландтаге. В то же время Пруссия благодаря своему экономическому и государственно-правовому положению, а также благодаря личной унии прусского короля и германского кайзера занимала в Германии ведущее место. Это сказывалось главным образом в военной области, так как прусский военный министр, не ответственный перед рейхстагом, вершил все военные дела рейха. Отчасти именно поэтому вся Германия проявляла интерес к прусскому избирательному праву. Главное заключалось не в обещании ввести в Пруссии после войны всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право, а в том факте, что до сих пор в Пруссии действовало столь реакционное избирательное право.
В Германии возникло сильное возмущение. На одной стороне были широкие круги населения, выступавшие за демократическое избирательное право, на другой стороне — те, кто защищал старое избирательное право, недвусмысленно отдававшее предпочтение их интересам. Последние утверждали, что поднимать во время войны вопрос о прусском избирательном праве — это значит нарушить слова кайзера «Я не знаю больше партий, я знаю только немцев», что решение всех спорных внутриполитических вопросов надо отложить до окончания войны. Противники реформы прусского избирательного права принадлежали, в основном, к тем же кругам, которые выступали за войну «до победного конца» и за бесцеремонную захватническую политику. Они гордо именовали себя «имущими и образованными людьми». Одно из их главных возражений против реформы избирательного права заключалось в том, будто бы она привнесет в армию политику. Такой точки зрения придерживались очень многие, в частности, вышестоящие офицеры, хотя, казалось, они должны были понимать, что именно отсталые отношения в Пруссии мешали сплочению немецкого народа в войне. Те, кто выступал за новое, демократическое избирательное право в Пруссии, вспоминали о том, что прусский король Фридрих Вильгельм III во время освободительной войны против Наполеона, в начале 1815 года, пообещал прусскому народу конституцию — обещание, которого он под влиянием тогдашних прусских реакционеров, особенно юнкеров, не сдержал. Я придерживался тогда относительно прусского избирательного права простой точки зрения: «На войне все одинаково хороши, чтобы быть убитыми, поэтому все должны иметь одинаковые права».
Тогда, в 1917 году, я регулярно читал либеральную «Франкфуртер цейтунг», фронтовое издание которой попадало ко мне в Турцию нерегулярно, а в 1916 году почти совсем не приходило.
В общем умеренная политическая линия этой газеты производила на меня сильное впечатление, равно как и все мое отношение к войне ввиду моей молодости сильно зависело от тех или иных впечатлений. Когда я встречался с суровыми и закаленными, бывалыми солдатами-фронтовиками, то был не меньше тронут их твердостью, чем их тяжелыми переживаниями, хотя нередко и они задавали вопрос: «Когда же кончится это надувательство?» Что касается политических событий и противоречий, то я, естественно, благодаря длительному пребыванию в тыловом госпитале знал значительно больше, чем они, хотя мои впечатления не сложились в систему взглядов.
Ввиду такого, по моим представлениям, совершенно запутанного положения я, малозаметный молодой офицер, предпочитал верить Гинденбургу и Людендорфу. Правда, одно высказывание, будто бы сделанное тогда Людендорфом, сильно возмутило меня: «Когда льется кровь, чернильницы надо закрыть». Вариант этого высказывания Людендорфа я прочитал в одной газете правого направления, поставившей его в связь с часто цитировавшимся тогда положением Клаузевица, что война есть не что иное, как продолжение государственной политики иными средствами. О Клаузевице я тогда почти ничего не знал, кроме его имени и нескольких кратких положений из его книги «О войне»; знал только, что до тех пор он считался крупнейшим немецким военным теоретиком, известным не только в Германии, но и за границей. Он был, так сказать, духовным отцом военной теории, которая привела к победам в 1866 и 1870–1871 годах. Упомянутая газетная статья связывала, следовательно, высказывание Людендорфа с высказыванием Клаузевица и излагала его в том смысле, что во время войны всем должны распоряжаться не политики, а военные.
В конце 1916 года, находясь в госпитале, я прочитал роман Анри Барбюса, который произвел на меня своеобразное впечатление. Читать по-французски мне было очень трудно, так как многие страницы книги были написаны грубым, но зачастую метким языком фронтовиков. Думаю, ни одному немецкому писателю не удалось описать во время войны жизнь пехотного полувзвода в позиционной войне на тихом участке фронта и в бою так, как это сделал Барбюс. Он весьма образно показал тяготы, бедствия, разорение и смерть, которыми определялась жизнь на фронте да и в тылу. Роман глубоко взволновал меня. Из прочитанного я сделал вывод: если у французов дела так плохи, то, быть может, мы все-таки выиграем войну.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: