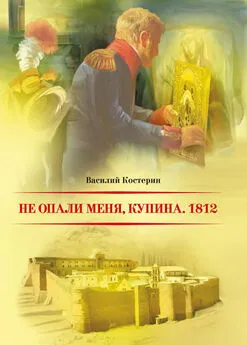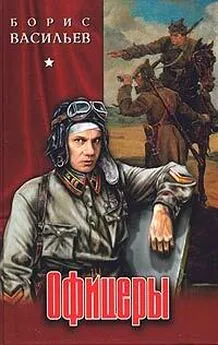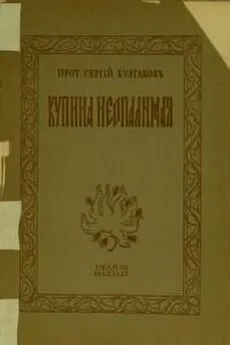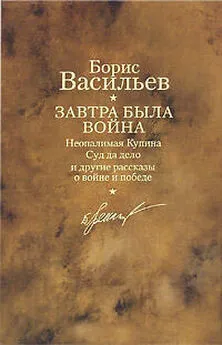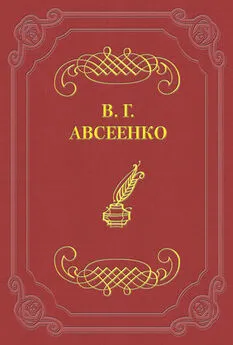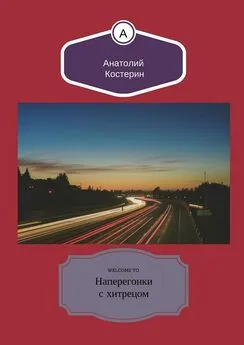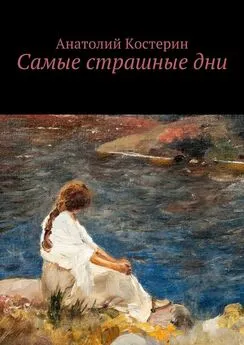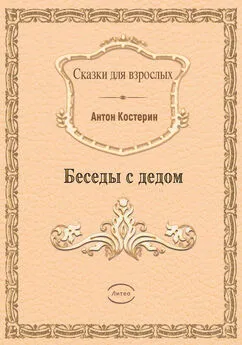Василий Костерин - Не опали меня, Купина. 1812
- Название:Не опали меня, Купина. 1812
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88017-324-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Костерин - Не опали меня, Купина. 1812 краткое содержание
Сегодня мы знаем о войне 1812 года, кажется, всё. О ней написано множество исторических исследований и художественных произведений. И всё же читателю предлагается ещё одна книга на эту тему. Чем же она отличается от других? Повесть необычна тем, что события того памятного года изображены глазами французского офицера, непосредственного участника войны. С героем повести читатель побывает в разорённой Москве и в Париже, на Синае и в Венгрии, пройдёт с наполеоновской армией до Первопрестольной и увидит бесславный путь завоевателей восвояси, отмеченный в конце гибельной переправой через Березину. Наряду с вымышленными персонажами в повести встречаются исторические личности, такие как французский генерал Евгений Богарне или писатель Стендаль. Действие начинается в 1798, а заканчивается в 1828 году. И ещё одна отличительная особенность повести: исключительно важное место в ней занимают иконы, а образ Неопалимой Купины можно считать равноправным, если не главным, «действующим лицом» произведения.
Не опали меня, Купина. 1812 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А тогда? В ту пору у нас с Жаном-Люком даже слово «сыр» было под запретом, чтобы не изойти слюной.
Вот что записал тогда мой боевой друг: «Наш император всё ещё на что-то надеялся, он отправил бывшего посланника в России Лористона для переговоров с русским императором, в письме он даже умолял Александра спасти его честь, а мы уже просто ждали приказа об отступлении. Старая разрушенная Смоленская дорога и смертельные объятия могучей русской зимы ждали императора и его верных солдат… Да, нелегко далось Наполеону это решение: перед лицом всей Европы своими руками — перечеркнуть такую победу! Он мысленно уже готовился к отступлению, к возвращению во Францию. Это было видно по тому, что, осматривая Кремль, он выбирал добычу, намереваясь захватить её с собой в Париж на память об успехах нашего оружия. Ему хотелось соединить два знаменитых имени — Наполеон и Москва. Один из трофеев помогли выбрать поляки: они обратили внимание императора на крест, венчавший колокольню Ивана Великого. Крест, говорили они, все русские, все православные почитают особо, даже суеверно. Герцог де Коленкур и маршал Бертье были против этой акции. Нам с Марком-Матьё тоже казалось, что следовало бы оставить колокольню в неприкосновенности. Но император отдал приказ, даже дважды. Он уже видел этот крест на Доме инвалидов в Париже. Хороших мастеров, согласившихся бы взобраться на такую высоту, не имелось, и туда послали наших сапёров. Крест хотели осторожно спустить, но, когда его почти сняли с купола, он рухнул вниз на землю». От себя добавлю, что это происходило на наших глазах.
Маршал Мортье со своим восьмитысячным отрядом остался в Москве, представлявшей собой пороховую бочку, поскольку император приказал Кремль взорвать, а уцелевшие здания — сжечь. Мортье выполнил приказ императора, к счастью, не совсем удачно из-за сильного дождя. Иначе это варварское и бесполезное с любой точки зрения деяние легло бы тёмным пятном на блестящую биографию императора французов. Всё же взрыв в Кремле был такой силы, что император услышал его в Фоминском, а это более десяти льё от Москвы. Кстати, не только крест с колокольни, но и всю взятую в Кремле добычу после Гжатска пришлось утопить в Смелевском озере. Тогда мы уже бежали, а не отступали.
Конечно, мы надеялись взять южнее, на Калугу, но Кутузов предусмотрительно перекрыл пути на юго-запад. Между прочим, мы могли бы остаться в Москве, провианта там хватало. После пожара в тайниках сгоревших домов мы обнаружили огромное количество необходимых на зиму съестных припасов. При экономии и порядке их хватило бы месяцев на восемь. В одном подвале мы с Жаном-Люком увидели даже немецкий рояль, а в другом — припрятанную французскую мебель. Москвичи надеялись вернуться. Или это были тамошние французы? Во всяком случае, мы с Жаном-Люком разжились прекрасными французскими винами на обратную дорогу. В одном подвале мы нашли несколько десяти- и двадцативёдерных бочек вина и десятки зарытых в песок бутылок: тут были Château-margaux 1804 и 1805 годов, Medoc, Sauterne и несколько сортов лучших испанских вин. Этот богатый выбор живо напомнил нам нашу далёкую родину.
Генерал-интендант граф Дарю (кузен Анри Бейля, о котором скажу ниже) предлагал перезимовать в Москве, чтобы весной тронуться на Петербург. Однако у нас возникли большие проблемы с фуражом. Кормить лошадей было нечем. Впервые мы столкнулись с этим еще под Витебском. Там фуражиров приходилось посылать за десять — двенадцать льё, чтоб раздобыть хоть что-нибудь. Под Москвой они рыскали по окрестностям, стаскивали подгнившие соломенные крыши с уцелевших крестьянских изб. Но разве подобное способно напитать конницу? Взять хоть тяжёлых лошадей кирасиров?! К тому же русские сожгли не только Москву, но и множество деревень вокруг неё. Больше всего фуражиры боялись партизан. Самые большие потери после взятия Москвы у нас случались именно среди фуражиров. Конечно, в прямом сражении мы чаще рассеивали партизан, хотя не раз и проигрывали стычки. Все же в наших поражениях виделось больше порядка, чем в их победах, но это мало утешало.
И вот ещё что: с русскими нельзя было воевать по правилам. Уже в начале похода я понял, что они имеют собственные правила ведения войны, которые отвергают наши наполеоновские или европейские, но, кроме того, они постоянно меняют свои же правила и выдумывают новые… Это раздражало. Где-то в середине августа под Смоленском, когда они сдали город, а потом снова лихо отбили у нас одну его часть ценой немалых жертв, я понял, что идёт совсем другая война. Теперь представьте себе, из-за чего они пошли на такие жертвы?! Просто ради того, чтобы унести с собой une image de la Sainte Vierge [16]на доске, которую они называли так же, как и дорогу на Москву — Smolenskaya [17]. Мы били русских… Но то было в Австрии, в Европе. Сейчас же они сражались в Отечестве и за Отечество. Мы воевали совсем в других условиях, и бравая поговорка à la guerre, comme à la guerre [18]не помогала.
Даже не выговаривалась. Мы раз за разом побеждали русских то в одном, то в другом сражении, но странным образом победа каждый раз ускользала у нас из рук, а рус ская армия оставалась реальной силой и угрозой. Мы как будто гнались не за победой, а за её призраком.
Из заметок Жана-Люка Бамберже: «Иногда казалось, что мы наступаем в пустоту. Ужасное чувство! Ты с полным напряжением сил и нервов готовишься к сопротивлению, к смертельному бою, но вместо этого проваливаешься в никуда, видишь перед собой не вражеских солдат, а пустые окопы и изредка вдалеке арьергард, в полном порядке прикрывающий отступление основной армии. Ты как будто продвинулся вперёд, занял новый плацдарм, но всё это — как будто, как бы… Решающего сражения нет. И когда оно произойдёт, если, конечно, произойдёт, не известно никому. Может, даже русским. Инициатива была у нас. Мы постоянно наступали. Но при этом мы слабели, а русские уходили в свои внутренние области и там получали подкрепления, продовольствие, фураж. Мы шли вперёд, уже ясно сознавая, что место и время решающего сражения будут выбирать они, а не мы. И, конечно, русские сделают всё, чтобы поставить нас в самое невыгодное положение. И в каждом, думаю, жила мысль: пусть в самое неудобное для нас время, лишь бы поскорее. Наступление в пустоту изматывает больше, чем длинные переходы, недостаток продовольствия или мелкие стычки».
Как я хорошо понимаю моего друга! Наше продвижение скрашивали иногда анекдотические случаи. Однажды на марше в сторону Смоленска мы обнаружили под кустом мирно спящего на шинели русского солдата. Его ружьё оставалось зажатым между колен. Видно, отстал от своей колонны. Он мирно посапывал и во сне отгонял от лица слепней, лениво помахивая короткопалой рукой. Мы окружили его, посмеиваясь и не желая будить. Всем, думаю, ведомо это чувство: кошка уже уверена, что обессилевшей мышке не убежать. Мы даже не стали забирать у него ружьё. Наконец солдат, почувствовав что-то, проснулся. И только тогда у него вырвали оружие и отвели в штаб, где допросили. Но что мог знать простой рядовой? На вопрос о направлении, в котором отступила колонна, он, пожав плечами, неопределённо махнул рукой. И он не врал — действительно не знал. Даже наши разъезды подолгу разыскивали следы отступления русских, чтобы выбрать верное направление преследования.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: