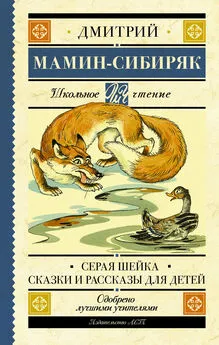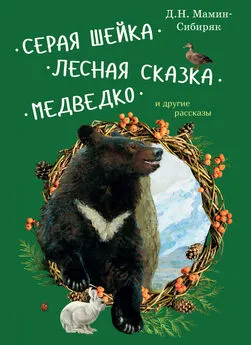Дмитрий Мамин-Сибиряк - Живая вода [Рассказы]
- Название:Живая вода [Рассказы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Редакція журнала «Дѣтское чтеніе»
- Год:1905
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мамин-Сибиряк - Живая вода [Рассказы] краткое содержание
Живая вода [Рассказы] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но что приятно поражает глаз в этой толпе, — так это какая-то особенная простота выражения, как женских, так и мужских лиц, трудовая сосредоточенность взглядов и вообще что-то такое патриархальное, чего уже не достает нашему великоруссу, а тем больше — сибиряку. Да, убого, некрасиво, но, все-таки, хорошо именно своей простотой и сердечностью. И все свое, — своей домашней работы: рубахи, шаровары, свиты, запаски, плахты. Правда, некрасиво сидит эта самодельщина, особенно на молодежи, но за то вы нигде не увидите ситцев и миткалей, в какие разодеты наши русские бабы. Фабричная цивилизация еще не задела этот мирный народ, и, много-много, если какая-нибудь щеголиха вырядится в кумачный красивый платок, или обмотает голову безобразной бумажной шалью.
— Вертайся до нас, Галю… — слышится ласковый старушечий голос. — Пидем у пещеры…
— Бабуся, мы трохи сходимо у город, до купцов.
— Нэхай…
Эти разговоры на «вы» как-то даже странно слышать после нашей великорусской и сибирской грубости. Ни галденья, ни звонких бабьих голосов, даже молодежь смотрит так серьезно и сдержанно, — ничто не нарушает святости заветного уголка.
Беру первого, попавшегося на глаза, хохла-извозчика и отправляюсь в центр города, т. е. на Крещатик. По дороге — те же толпы богомольцев, такая же толкотня у мелких лавчонок с образками. Какой-то молодой хохол растянул на прилавке полотно, с намалеванным на нем черным крестом, лестницей, мертвой головой и еще какими-то принадлежностями траура, и, видимо, торгуется уже давно, потому что разбитная толстая торговка утирает пот с лица и накидывается на хохла с особенным азартом.
— Что это он покупает? — спрашиваю извозчика.
— А на смерть покупав… покров такий… — отвечает извозчик и почесывает в затылке на великорусский манер.
Мы так оставили запасливого хохла торговаться на смерть. Сейчас за крепостной стеной глянул на нас синий Днепр и скрылся за зеленью Царского сада, распланированного чистенькими дорожками, клумбами и куртинами. Налево — низменный одноэтажный дом совсем как-то потерялся в тени целой роты великолепнейших тополей; там дальше опять сады и опять тополи и какие-то совсем неизвестные мне деревья, покрытые пирамидками белых цветов, точно святочная елка свечами.
— Грецкий орех… — сурово объяснил извозчик, хотя этот грецкий орех оказался впоследствии каштаном.
К Крещатику, главной артерии Киева, мы спустились мимо целых облаков зелени городского сада, — я не ожидал такой красоты и глазел по сторонам, как пошехонец. Вот и Крещатик с его трехсаженными панелями, бесчисленными магазинами, цукернями, продажей минеральных вод на каждом шагу, треском и лязгом мостовой и вечной толпой пешеходов, бойко сновавших взад и вперед. Оставив извозчика, я отправился пешком. Зашел по делам в два-три магазина, купил газету и завернул в погребок «натуральных кахетинских вин» освежиться стаканом вина.
В погребке было очень прохладно, а пред окном тянулась бесконечная толпа пешеходов, напрасно старавшаяся спастись от жара в тени домов. Нужно было перевести дух и всмотреться в двигавшуюся городскую толпу.
Крещатик поразил меня своим столичным великолепием и необыкновенным движением гораздо больше, чем удивлял прежде Невский или Кузнецкий мост. Это такая щегольская и чистенькая улица, при том с европейской складкой, чего, пожалуй, не найти и в столицах. Да, это именно европейская улица, вся пропитанная специально польским щегольством, — везде лица польского типа, особенная польская чистота и бойкая «польская обувь». Ни русского, ни хохлацкого, начиная с объявлений на окнах магазинов, где русскими буквами в одном месте требовалась «девушка к платьям».
— Мое ушинованье, пан Здислав… — врывается в отворенную дверь погребка густой басок невидимого пана.
— До видзенья, пан Иосиф.
Торопливо бегут по тротуарам с коробками в руках «девушки к платьям», полулежа в колясках катятся красивые паненки и пани; с строгими лицами проходят сердитые старухи-польки, вечно занятые и вечно озабоченные, а настоящим, кровным панам, одетым по последней модной картинке, и счету нет. Много типичных, красивых лиц.
Решительно, этот Крещатик — улица-красавица, и я остался от нее в восторге, особенно когда за двугривенный купил такой великолепный букет из тюльпанов, сирени, белых нарциссов и еще каких-то розовых, душистых цветов, какой у нас на севере не купишь в это время ни за какие деньги.
Считаю не лишним сказать несколько слов относительно местоположения и истории Киева, этой колыбели нашей родины и, по выражению Александра II, «Иерусалима земли русской».
Как известно, Киев расположен на правом гористом берегу реки Днепра. Если смотреть на него с высоты птичьего полета, представляется такая картина: гористый высокий берег, который поднимается над уровнем реки на сорок сажен, изрезан по направлению к Днепру несколькими речонками, вырывшими глубокие лога, или, по степному, — «балки»; — эти речки с историческими названиями, именно: Лыбедь, Почайна, Глубочица, Киянка и т. д. Некоторые речонки давно исчезли, как Желань, Любка и Сестомля, но остались вымытые ими глубокие разрывы берега. Центр города занимают старокиевские высоты, где, собственно, стоял «град Кыев»; южнее идет печерская возвышенность, отделенная от старого города широкой крещатой долиной, по которой вытянулись чистенькие улицы нового города, придвинувшегося к линии железной дороги. Севернее старого Киева стоит гора Щекавица, а сейчас у его подножья выдвинулся в Днепр полуостровом низкий берег — Подол. Днепр у города разветвляется и образует Труханов остров с Долобским озером. За ним, на левом берегу Днепра, виднеется Лысая гора, — сборище знаменитых киевских ведьм. Вверх по реке, в туманной дымке горизонта чуть-чуть брезжат Межигорье и высоты Вышгорода.
Собственно Кыев, где стояли языческие боги, а потом блуждающим огоньком мелькнул первый свет христианства, занимал на старо-киевских высотах очень небольшое место, и можно только удивляться, что на таком ограниченном пространстве свершилось так много славных и великих дел. «Золотые ворота» показывают пределы старого града Кыева, и, глядя на них, невольно дивишься, как немного было нужно места для такого бойкого, торгового и воинственного города, каким был Киев при Ярославе I. По нынешним порядкам этого места едва-едва хватит, чтобы устроить народное гулянье или парадное учение местному гарнизону; а между тем тут стояли языческие боги, княжеские дворы и терема, потом выросли церкви и монастыри, не считая хором и избенок мелких киевских людишек. Тут приносили человеческие жертвы Перуну, пировали у Красного Солнышка, ласкового князя Владимира, великие русские богатыри, и тут же смиренно замаливались всякие грехи, содеянные «во тьме язычестей»; мелкие киевские людишки перебивались разным киевским рукомеслом, торговали, обманывали добродушных полян и суровых древлян, а потом шли воевать себе на пользу, а великому князю на славу. Да и война в то доброе время была у себя же дома, — дрались с удельными князьями сейчас под горой в долине Глубочицы, с поляками и степными кочевниками — прямо у Золотых ворот.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Мамин-Сибиряк - Живая вода [Рассказы]](/books/1061784/dmitrij-mamin-sibiryak-zhivaya-voda-rasskazy.webp)

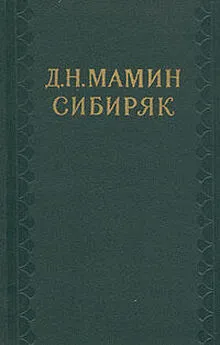
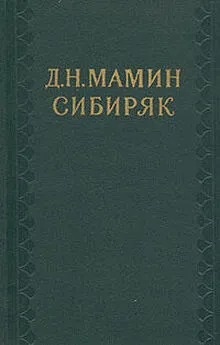
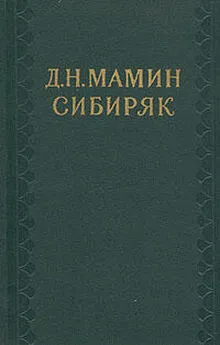
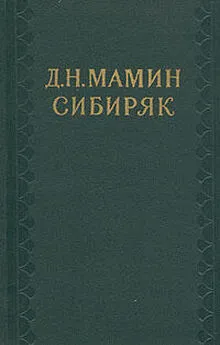
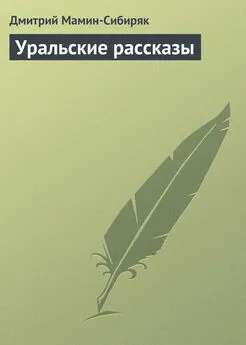
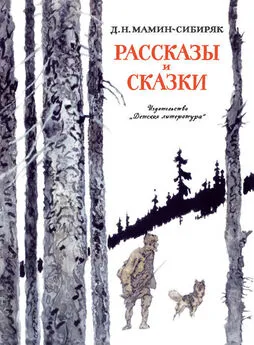
![Дмитрий Мамин-Сибиряк - Зимовье на Студеной [Рассказ]](/books/1060478/dmitrij-mamin.webp)