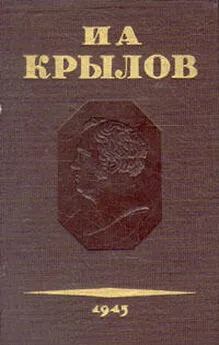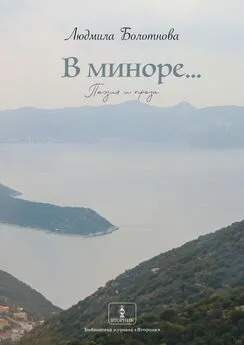Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Название:Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:RA
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-902801-04-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза краткое содержание
Том 2. Теория, критика, поэзия, проза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Геркулесовы столпы *
Часть I
Память девичья
Глава I
Золотые горы
Il faut lui rendre justice, il m’a beaucoup crétinisé. Que n’aurait-il pas fait s’il eut pu vivre davantage 1
C-te de Lautréamont 2Общая убежденность в том, что время имеет только одно измерение, сильно поколеблена последними размышлениями некоторых бездельников, уверяющих почтенную публику, будто, они, бездельники, любят мудрость, а не издательский гонорар или аплодисменты своих пышношляпных слушательниц. Последние, естественно, радуются провозглашению величества памяти – вещи для них весьма ценной, как в виду редкости личного ею обладания, так в виду и несомненного их пристрастия, пристрастия профессионального, к заселению собой чужой (преимущественно, если не исключительно мужской) памяти. Вы не сердитесь на них, читатели? Не сердитесь на меня, читательницы: если вы уже сейчас недовольны, то что же будет с моей книгой впоследствии? Я прощаюсь с вами на пороге ее – простите, простите… прости. Не поминай лихом.
Память! Добродетель атлантов! Ключ Мнемосины! Место прохладное. Вечное успокоение праведных, обличительница грешников! Молния в полуночи! Книга, тщетно перелистываемая бледным и величественным банкиром, в поисках заведомо несуществующей записи, где спасение бронированного девственным крахмалом сердца. Рот скривился и слюна уже капнула на манжет. Невидимая на растресканной коре бабочка раскрыла пожар цветов и опять захлопнулась: ты – память. Но чаще ты представляешься мне длинной, длинной полосой хирургически отшлифованного рельса – двойной вблизи – одним серебром у снежного горизонта; или длинной, длинной пятерной линейкой по небу, с аккордами изоляторов, мелодией ласточек и паузами ущемленных за мочальные хвосты змеев; или неслышными, гибкими, белыми по белому, пушистыми, милыми следами лыж без начала, ощутимого у какого-нибудь поворота, и с веселыми голосами отдыхающих в конце, среди бамбуковых палок, серебряного инея, золотого смеха, золотого солнца, морозного румянца и неизбежных мешочков, предпосылки бытия женщины любого возраста, всех времен и народов. Не, я сбиваюсь с дороги, эти следы сейчас повернут. Вот, так и есть, еще сидят, но только двое и сейчас молчали: поэтому я их не сразу нашел. Не подходите, читатель, и не спрашивайте – они вас не увидят и не ответят: они – прошлое. Он – этот молодой человек (что достаточно старит его), Флавий Николаевич Болтарзин и в те времена не увидал бы вас (вы о нем еще не то узнаете, не торопитесь) – слишком он смотрит на Зинаиду Павловну Ленц. Слишком, читательница? Ведь «ничего особенного» – только глаза фиолетовые при волосах темнее собольей шапочки (любила светлые соболя и светлые рубины) и зубы блестят на фоне меха (у, кокетка! – не сердитесь, читательница: увидите, чем это кончится). Что же они говорят? Вопрос праздный. Говорят то, что положено говорить в таких случаях и что они сами вряд ли представляли себе в подробностях. Говорили, чтобы не молчать, чтобы слушать чужой, милый (?), да, что греха таить, и свой, особенно милый и совершенно незаменимый голос. Что поделаете, я не встречал еще ни одного человека, переживающего собственную кончину, а смерть самых дорогих существ переживалась, обыкновенно, благополучно. Деловая часть остановки и уединения заканчивалась тоже благополучно. Кстати, это были слишком благонравные молодые люди, чтобы им объясняться в любви при такой обстановке (Боже упаси!), алюминиевое приспособление девичьей лыжи было исправлено («Я говорил, что…») и, в сущности, можно было идти к [горке] – кататься под нее и прыгать. Но горел четвертый час января.
Был тот час, когда солнце, без видимой причины, вспыхивает ракетой, на высшей точке восходящей ветви своей кривой; час, когда лучи бегут параллельно земле и зажигают золотом кругло замерзшие колонны сосен, когда небо само не знает, что оно: голубое или желтое, снег обращается в зернистую икру пентаграмм света и счастья, глаза горят, щеки вспыхивают ярче рубина, полночных семафоров и, все таки, ничего не видят – ресницы то длинные, и на них иней, тоже блестящий. Но и это золото ржавеет, как дружба: краснеют стволы – пора, пора… «Но у меня нет брата, а так все шутишь, трещишь – мало этого. Могу ли я быть уверена, что если когда-нибудь… Боже, что там?» Потому что тишина проснулась и лопнула одним, а там и другим, третьим и т. д. криком. Кричали на горке, там катались, там несчастье, туда и бежать. Поступлено в соответствии, да так и оказалось. Отбежав положенное по данному направлению расстояние, увидели, что несчастье действительно произошло: все лыжники друзья стояли копной, а копна махала черными руками (много) и кричала; с горки же скатилась одна лыжа, явно смущенная собственной ненадобностью, и торчала одна палка, а другая зарылась в снег, вверх колесом и находилась в мечтательном отдалении от этой пары. Умница один такой уверял, что у луковицы нет ничего, кроме слоев шелухи – в том-то и дело, что внутри есть росточек – стрелка, она потом цвести будет. Вот такой именно стрелкой многорядного скопления лыжного и был добрейший кузен Зинаиды Павловны – Петя. Он возился (кончал возиться) с ногой – какой ужас, – кровь на снегу: барышне чуть дурно не сделалось. Посмотрел на кущину и сказал: «это все листики – цветочки будут впереди». И Зинаида Павловна подумала, что он прав, что тетя – да, тетя сердитая и вообще не одобряет, что Пете будут ягодки и семечки, да что вообще, вероятно, с лыжами и ей придется проститься. А так как последняя мысль самая яркая (по времени своего возникновения, конечно, а не по характеру), то Зинаиде Павловне сделалось грустно и затруднительно, а когда ей делалось затруднительно, она говорила: «Флавий Николаевич». В данном случае этот общеполезный человек предложил перевезти Петю в лабораторию, переменить сапог, разорванный железным наконечником, а потом Пете со всеми домой; шуметь; а у Пети будут зубы и он пойдет спать, бедный мальчик. Дня два все успокоится и заживет. Принято без возражений и единогласно. А на обратном пути наши друзья молчали; т. е. говорить, ясное дело, хотели, но подняться на ту горку, на какую только что взвились – народ мешал, да и движения, дыхание и т. д., потом вот еще… но этого они не знали. Бежит ток по проволоке, вбегает в лампу, кружит по звонкому лабиринту серых волосинок, они краснеют, краснеют и светятся, ровно и бело, а ток бежит по другой меди, в шелковом платье, рядом с прежней. Но если можно, если шелк истерся где-нигде, лентяю не расчет бежать в лампу на предмет культурно-просветительской деятельности, предпочтительно юркнуть на медный паркет соседнего шелкового коридора; миг и дуга, яркая до ослепительности. Предохранитель перегорает, во всей квартире темно: «№ 477–129». «Да, что угодно?» – «Монтера, пожалуйста – короткое замыкание, предохранитель, скорее, пожалуйста». Что, хорошо, скажете? Нет, конечно. Так берегите же себя, а то и с вами это случится, дорогие читательницы и уважаемые товарищи. Все это я говорю к тому, что с нашими молодыми друзьями произошло именно это самое, и, хотя в душе и посвечивало еще солнце, ослепившее путника и видимое им и при закрытых глазах, но ночь несомненно обнимала свет, который в такой тьме не светит иначе, как ревнивым и не греющим (зависть всех осветителей) огоньком светляка, приманкой порхающей любви. Поэтому бывает грустно хорошей, небольшой, сумеречной грустью белого, скрипящего под лыжей снега, сначала покойной в движении глаз: от земли к соответственным глазам и обратно потом переходящей в движенье, непрерывное (до остановки), прямолинейное (по возможности) и равномерное (смотря по обстоятельствам).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: