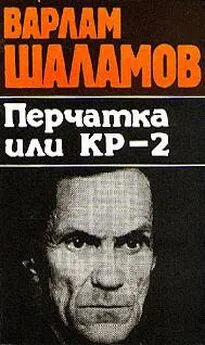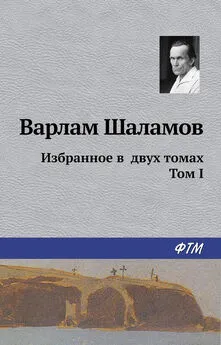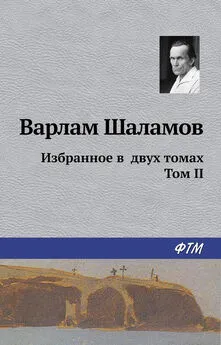Варлам Шаламов - Том 4
- Название:Том 4
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус, Художественная литература
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-280-03162-3, 5-280-03214-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Варлам Шаламов - Том 4 краткое содержание
Том 4 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Потому что мир меняется невероятно медленно и, м. б., в основе своей не меняется вовсе. И если художник в своем творчестве вошел в эту извечность отношений (ведь не платье же Моны Лизы вечно, а ее глаза, мир) и чувств, он будет волновать всегда людей во все времена и вне их социальных категорий.
М(ожет) б(ыть), только тот и гений, кто смог эту извечность угадать и показать в каких ему угодно масках. «Ромео и Джульетта» никогда не будут чем-то вроде исторической драмы. Не будут ею и «Гамлет», и «Отелло», и «Король Лир». Я вспоминаю вахтанговскую, т. е. театра им. Вахтангова, акимовскую интерпретацию «Гамлета». [103] Спектакль «Гамлет» Театра имени Евг. Вахтангова (1932) — первая режиссерская работа Н. П. Акимова — был решен в вульгарно-социологической трактовке; стержнем спектакля была борьба Гамлета за престол. Роль Гамлета сыграл характерный актер А. И. Горюнов.
Зритель, читавший Шекспира, глядел этот спектакль с недоумением. Зрителю, не читавшему Шекспира, было просто скучно, ибо он чувствовал, что ничего, кроме быта, тут не предлагается ему. И как ни тонки были актерские, режиссерские, декораторские находки, как ни чудесен был кровавый плащ Клавдия — спектакль не пошел.
Я могу привести Вам много, много таких примеров, вплоть до потрясшего меня признания Станиславского за год до смерти в беседе с учениками — уже большими и почтенными мастерами, его адептами, что Художественный театр — это хрупкий организм, что он при небрежности исчезнет в две недели, погибнет в два спектакля.
«Алгебра» в поэзии — это, конечно, не «символы» русских поэтов начала двадцатого века. Она трижды, четырежды земная, из земли родившаяся, но не возвратившаяся в землю, а продолжающая жить на земле.
Это касается ощущений «Гефсиманского сада» — я горжусь Вашей внутренней свободой и благоговею перед ней.
Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти, поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и задушевности. А книга эта — родник чистоты, и кто обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой (весь от ранних вещей до последних) без нее?
Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы.
Доброго Вам здоровья, Борис Леонидович, творчества, творчества. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с Вашим романом — куски переписывать нет смысла — нужна вещь вся.
И примите мои глубокие извинения за те стихи мои, с которыми познакомила Вас моя жена. Эти семь-восемь стихотворений — лишь десятая часть новой книжки «Времена года», которую я посылаю в письмах, но почта работает плохо, и до нее дошли только, к несчастью, наименее интересные и важные. Я был в полной уверенности, что она давно все получила, и надеялся, что Вы сможете увидеть все сразу. А так не стоило их и показывать Вам. Я прошу у Вас разрешения повидаться с Вами хоть на пять минут, если я буду когда-либо проезжать через Москву.
Привет Вашей жене.
Еще раз желаю Вам счастья, здоровья и творчества.
В. Шаламов.
Дорогой Борис Леонидович.
Я не знаю только, как мне писать. То, что пишется, это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе.
Я прочел Ваш роман. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких моих чаяниях последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш ненапечатанный, неконченный роман, да еще получаемый в рукописи от Вас самих. Всего два месяца назад, чужой всем окружающим, затерянный в зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголочки с печурками, какие-то избушки среди неизбывного камня и леса, среди чужих пьяных людей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык за семнадцать лет.
Затерянный, но не забытый. Я вернулся и пришел в Лаврушинский. Встретился с Вами. Поймите, чем это было для меня. Поймите даже мою немоту. Ведь от встречи после разлуки с городом можно плакать на подъезде вокзала, а тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слыханным или читанным. Ведь ожидание мужей с войны — этой (нрзб) — ребячество, даже по времени ребячество. Когда все искусство, все газеты, доклады — все кричат на каждом шагу, увязывая ее с мужем и провозглашая ее героизм, и совсем, совсем другого масштаба дело, когда все ей кричат: «Твой муж — преступник, порви с ним, и ты будешь свободна от дискриминации», ее лишают службы, ей мстят всей силой государства. Она годами бедствует и плакать уже разучилась. На руках ее полуторагодовалый ребенок. И какую нужно иметь душевную силу и веру в человека, чтобы семнадцать лет писать по сто писем в год, встретить его на вокзале. Вот на другой день после этой встречи я и был у Вас впервые. И эту встречу, зная, чем она является для меня, она подготовила.
И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение, а меня для нее — первое — я ведь оставил ее ребенком полутора лег, а сейчас ей 18, и она студентка второго курса.
И, наконец, в эти же два дня — эта необыкновенная встреча с Вами. Кем Вы были для меня, чем были Ваши стихи для меня целых двадцать лет — об этом надо и рассказывать и писать отдельно.
Не правда ли — не слишком ли много событий для двух дней одного человека. Простите меня, что я пишу не о романе, это тоже о романе, впрочем — это состояние, созданное его чтением, это фразы, подсказываемые Вашими героями, — так что они толкнули меня на исповедь.
Видите ли, Б. Л., я никогда не выступал в роли литературного критика. И никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то первовосхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже лет 18 назад печатал — рассказы плохие. Я напряженно работал тогда над коротким рассказом, лет пять, кажется, учился понимать, как сделан рассказ Мопассана «Мадемуазель Фифи», а потом понял, что вовсе не это знание нужно для писателя.
Я понял, что писателя делает поэтический напор прочувствовать впечатление, как будто слова спасаются от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, и вырываются, выбегают на бумагу.
Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто тревожащее Вас требует выхода на бумагу, требует записи, и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, они в сущности своей то же самое, что стихи. Остаются идеи, требующие трибуны не стихотворной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: