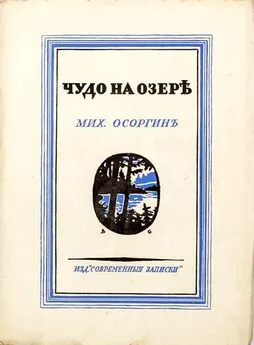Михаил Осоргин - Чудо на озере
- Название:Чудо на озере
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современныя Записки
- Год:1931
- Город:Paris
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Осоргин - Чудо на озере краткое содержание
Современная орфография.
Чудо на озере - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разбогатеть? Но как? От работы не разбогатеешь, — она и так отнимает весь день. Выиграть в карты?
«Я только что воротился домой. Я сегодня играл и много проигрался; но не мог заглушить тоску свою. Тебя я не видал, а если бы и увидал — разве было бы лучше? Ты была дома, потому что я видел свет у вас в доме. Верно у вас Г., — подумал я; и как ни разуверяла ты меня, и как ни верю я тебе, а все мне стало нехорошо от этой мысли. Кто близок к тебе, того ты скорее полюбишь; кто так далек, как я, того ты любить не можешь. Господи, как грустно мне. Теперь, после этой убитой так пошло ночи, еще хуже, еще пустее кажется на свете, и ничего, решительно ничего, ни малейшей надежды. Нет, я решительно погибаю и оставаться так долго уже не в силах. Пусть гибну».
Последняя буква прижата пером, и черта под отрывком дневника, обильная чернилами, шершавая, разорвала бумагу…
Кажется — все кончено!
Но нет еще две краткие записи:
— «Хорошо мне теперь. Целый вечер я не спускал с тебя глаз и говорил с тобою. Неужели в самом деле я могу быть счастлив?»
— «Два нехороших дня. Я решился не писать в эти минуты ужасного состояния и тоски. Я начинаю бояться мысли, что к счастию я не способен. Буду писать теперь только тогда, когда мне хорошо будет. Когда же это?».
Когда же это?
Такова — последняя строчка полных грусти и безнадежности любовных записей моего бедного отца.
«Судьба этих глупых писем — быть сожженными» — писал он раньше. Но прошло почти семьдесят лет, — и аккуратная тетрадочка, исписанная мелким его почерком, озаглавленная на первой странице «Мои бредни», — лежит передо мною.
Отец ошибся: тетрадка пережила и его, и эту неприступную и недостижимую Леночку, и, может быть, переживет меня, которому она досталась в наследство и во свидетельство того, что любовь не придумана сегодня, что она вечна с вечными своими спутниками: щемящей грустью, сменой очарованья унынием, отчаяния надеждами, с неизменным самобичеванием, мечтою об идеальном и прозой действительности.
Отец ошибался и в другом: любовные дневники пишутся только в минуты грусти и неуверенности, а не «когда будет хорошо». Когда хорошо, когда человек счастлив и любовь его разделена — зачем тогда писать дневник? Зачем писать тайные письма той, которой уже можно все сказать и от нее все услышать?
Чем кончился его роман? Прочла ли Леночка эти несожженные во время записки? Пеняла ли их автора, оценила ли? Смогла ли, наконец, полюбить она, «не понимавшая романтической любви» и «неспособная полюбить никого?»
Я вижу эту Леночку с ласковым взглядом голубых глазок, нежную, кроткую, неспособную на мучительство. Она смотрит на меня с миниатюрного портрета.
Эта Леночка — моя покойная мать.
Я пишу эти строки глубокой осенью, в деревне, у большого открытого окна. Умирающая зелень за окном, и весь мой домик, и моя комната, и мой стол, и рукопись, — все залито щедрым золотом солнца. Я в нем купаюсь, как в расплавленном счастье, как в потоке и сиянии разделенной любви.
Я помню о двух могилах в двух далеких городах России: могилах отца и матери. Одна в Прикамье, на старом, вероятно уже заброшенном кладбище; другая близ города, у подножья которого течет река Белая. Мне никогда не увидать больше этих разлученных могил.
Сыновним чувством, проснувшимся в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный, незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов, осыпанной цветами сыновней признательности, — единственный памятник, какой могу поставить своими руками и своими скудными средствами. Чтобы и мне было, где молиться и что чтить. И было бы это везде и всегда со мною.
Эти строки, пройдя через машину наборщика и свинцовую пыль типографии, прочтутся чужими людьми с любезным вниманием или с привычной рассеянностью. Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все.
Что останется?
Останется, конечно, солнце. И останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. Она останется, каковыми бы ни стали люди в массе, каких трезвых слов ни придумали бы, какой обидной улыбкой ни награждали бы мечтателя. Всегда останутся чудаки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном томлении, готовые «разбить жизнь свою» за минутное невнимание и «отдать всего себя без остатка» за ласковый взгляд. После — дневники их обрываются, и тогда начинается реальное, хорошее, или дурное, или среднее, незаметное, простое.
Живя этим реальным, — они хранят среди старых бумаг и любимых вещичек страницы, писанные ими в ином, нереальном мире, — в мире грез об идеальной любви и недостижимом счастье. Прекрасное и неповторимое остается святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается.
Как хрупкий, засохший цветок, — я берегу этот дневник моего отца. На нем почиет святость прошлого, давшего и мне радость жизни, тоску сомнений и счастье любви разделенной.
ЧАСЫ
О. X. Лопатиной
Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь; вставши, как обычно, в семь, прополоскала в чистой воде, успела и просушить и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но еще прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя — фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой.
На свете, на всем белом свете — а уж на что он велик! — не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим — блестело; все, что было старо и поизносилось от времени — сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну-единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой.
Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивленье: рабочий столик и каминные часы.
Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии, и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год; тридцать первого декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях — от внука, которого бабушка не видала двадцать два года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: