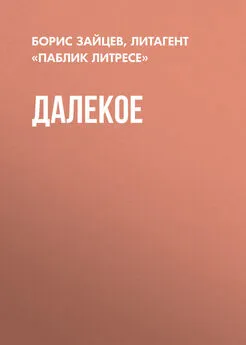Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]
- Название:Далекое [сборник litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вече
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-7908-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Далекое [сборник litres] краткое содержание
Далекое [сборник litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт?
Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.
– Мечта поможет нам. За мной! – И подходит к большому, старому обеденному столу. – Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы.
И он ловко нырнул под стол. Волошину было труднее, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по-детски. Но «Борис» не пошел.
Вскоре из пальмовой рощи Спасо-Песковского раздались протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов.
Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что Я не полез в эти «рощи», ОН запомнил.
Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида:
– Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии.
(Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике.)
Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал – новизной, блеском, задором, певучестью.
Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и бальмонтистки кончились – наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бельмонта. Он отошел и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.
В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный – и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе…» – мало ли чем это могло кончиться.
Но, слава Богу, осенним утром в Николо-Песковском (недалеко от нас) мы – несколько литераторов и дам – прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.
Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел – лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем, в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым.
Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния – считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.
Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Казалось бы, Пушкин мало подходящ для покаяния и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакался горько».
Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь.
Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.
1963Вячеслав Иванов
Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.
Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама – его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.
Смущенно и робко приветствую их – как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще всё на волоске… Учишься в университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет, все еще впереди: 1905 год!
Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением – «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).
Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром – два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках – соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по-теперешнему «авангардным» в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чаю с куском сахара мог – и устраивал – некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов – сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда свое, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец Подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) – вот он-то и оказался праправнуком Платоновых диалогов.
У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец – утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи… Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.
Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и вознбшении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае, тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]](/books/1077155/boris-zajcev-dalekoe-sbornik-litres.webp)

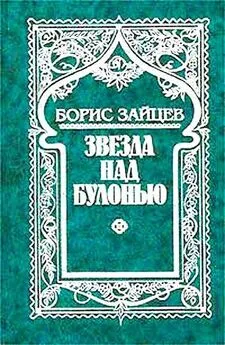
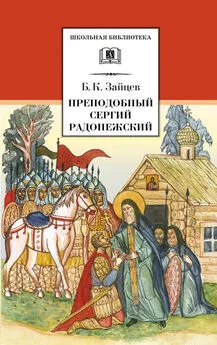
![Борис Руденко - Очень холодно [сборник litres]](/books/1067880/boris-rudenko-ochen-holodno-sbornik-litres.webp)