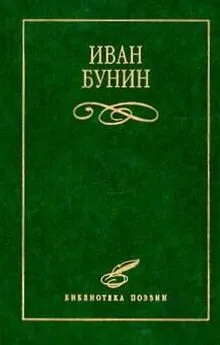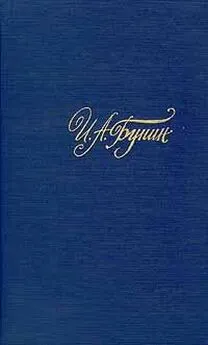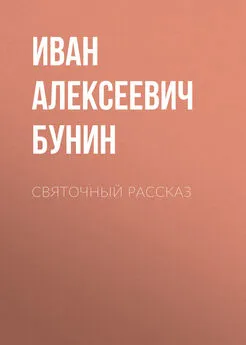Иван Бунин - Стихотворения. Рассказы. Повести
- Название:Стихотворения. Рассказы. Повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Бунин - Стихотворения. Рассказы. Повести краткое содержание
Вступительная статья А. Твардовского.
Примечания А. Саакянц.
Иллюстрации О. Верейского.
Стихотворения. Рассказы. Повести - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да, если бы запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!
В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я о мерном шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь. Кто и зачем обязал меня без отдыха нести это бремя — непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой и силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье? Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу, передавать им себя и искать в них сочувствования, единения, слияния с ними? С младенчества никогда ничего не чувствую я, не думаю, не вижу, не слышу, не обоняю без этой «корысти», без жажды обогащения, потребного мне для выражения себя в наибольшем богатстве. Вечным желанием одержим я не только стяжать, а потом расточать, но и выделиться из миллионов себе подобных, стать известным им и достойным их зависти, восторга, удивления и вечной жизни. Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, — высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой, — зачем, почему? — мечтой оставить в мире до скончения веков себя, свои чувства, видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!!» И тем страстнее кричу, что ведь на деле-то я не устрояющий, а разоряющий себя — и не могущий быть иным, раз уже дано мне преодолевать их, — время, пространство, формы, — чувствовать свою безначалыюсть и бесконечность, то есть это Всеединое, вновь влекущее меня в себя, как паук паутину свою.
А цикады поют, поют. Им тоже оно дано, это Всеединое, но сладка их песнь, лишь для меня горестная, — песнь, полная райской бездумности, блаженного самозабвения!
Юпитер достиг предельной высоты своей. И предельного молчания, предельной недвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия достигла ночь. «Ночь ночи передает знание». Какое? И не в этот ли сокровенный, высший час свой?
Еще царственнее и грознее стал необъятный и бездонный храм полнозвездного неба, — уже много крупных предутренних звезд взошло на него. И уже совсем отвесно падает туманно-золотистый столп сияния в млечную зеркальность летаргией объятого моря. И как будто еще неподвижнее темнеют мелкие деревья, ставшие как бы еще мельче, в этом скудном южном саду, усыпанном бледною галькой. И непрестанный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, стал еще более похож на какие-то дивные, всё как будто растущие хрустальными винтами цветы… Чего же наконец достигнет это звенящее молчание?
Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни, шорох накатившейся на берег и разлившейся волны, и за ним — опять легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов. И я точно просыпаюсь. Я оглядываюсь кругом и встаю. Я сбегаю с балкона, иду, хрустя галькой, по саду, потом бегу вниз, с обрыва. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель, несметных жизней… Нет, еще не настал мой срок! Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований. Еще как женщина вожделенно мне это водное ночное лоно…
Боже, оставь меня!
Приморские Альпы. 17 сентября. 1925
Божье древо
{87}
14 июня.
Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.
Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе — мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается:
— Господам дворянам почтение!
Мы приостановились:
— Доброго здоровья. Караульщик?
Он снял шапку и уже без всякой шутливости, низко, истово поклонился:
— Так точно. Буду караулить, вам и хозяину угожать.
— Так… Надевай шапку-то.
— Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу, и то не сравнял.
— А откуда ты и как величать тебя?
— Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.
И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно — по говору. Возраста неопределенного, — лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше, — наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти, — все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой кое-где седеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:
— Вот чаек себе налаживаю. Самоварчикя, признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугунчикя попьем…
Мы заглянули в шалаш, — там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек…
— Домок, как у зайца тяремок, — еще раз пошутил он. — Милости просим гостями быть…
В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:
— А как думаешь, будет дождь?
Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:
— Кабыть так. Маяго кобелькя нынче что-й-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожжу, она, мышь-крыса усякая, перед дожжем сильней пахня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем…
Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, таперь, но все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест.
Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать (вернее, приговаривать);
Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?
Интервал:
Закладка: