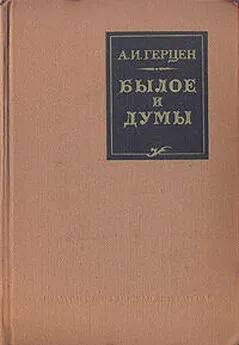Александр Герцен - Былое и думы Части 6-8
- Название:Былое и думы Части 6-8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Былое и думы Части 6-8 краткое содержание
Примечания:
к шестой части;
к седьмой части;
к восьмой части;
— к «Старым письмам»;
— к «Приложениям»
Былое и думы Части 6-8 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Бакунин вставал поздно: нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.
Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.
— Кто там? — кричит Бакунин, просыпаясь.
— Русский.
— Ваша фамилия?
— Такой-то.
— Очень рад.
— Что вы это так поздно встаете — а еще демократ…
…Молчание… слышен плеск воды… каскады.
— Михаил Александрович!
— Что?
— Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?
— Да.
— Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности; вот и Тургенев свою дочь прочит замуж, — вы, старики, должны нас учить… примером…
— Что вы за вздор несете…
— Да вы скажите, по любви женились?
— Вам что за дело?
— У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата. [442]
— Что вы это — допрашивать меня пришли. Ступайте к черту!
— Ну, вот вы и рассердились — а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.
— Хорошо, хорошо, — только будьте умнее…Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на несколько дней в Лондоне Потебня. Грустный, чистый, беззаветно отдавшийся урагану — он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и все-таки идти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки из края — их язык был определеннее и резче, они шли к взрыву — прямо и сознательно. Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель.
— Смертельно жаль Потебню и его товарищей, — говорил я Бакунину, — и тем больше, что вряд по дороге ли им с поляками…
— По дороге, по дороге! — возражал Бакунин. — Не сидеть же нам вечно сложа руки и рефлектируя. Историю надобно принимать, как представляется, не то всякий раз будешь зауряд то позади, то впереди.
Бакунин помолодел — он был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады, он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспирации, консультаций, неспаных ночей, переговоров, договоров, ректификаций [443]шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями елки, у меня на сердце скреблись кошки — я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел.
Здесь я останавливаюсь на грустном вопросе. Каким образом, откуда взялась во мне эта уступчивость с ропотом, эта слабость — с мятежом и протестом? С одной стороны, достоверность, что поступать надобно так; с другой, — готовность поступать совсем иначе. Эта шаткость, эта неспетость, dieses Zögernde [444]наделали в моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабую утеху в сознании ошибки невольной, несознанной; я делал промахи à contrecœur [445]— вся отрицательная сторона была у меня перед глазами. Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июне 1849. Это тип того, о чем я говорю. Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня, я видел нелепость движенья и его бессилие, народное равнодушие, освирепелость реакций и мелкий уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь над людьми, которые шли.
Сколькими несчастьями было бы меньше в моей жизни… сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя… Меня упрекали в увлекающемся характере… Увлекался и я, но это не составляет главного. Отдаваясь по удобовпечатлительности, я тотчас останавливался — мысль, рефлекция и наблюдательность всегда почти брали верх в теории, но не в практике. Тут и лежит вся трудность задачи, почему я давал себя вести nolens-volens [446]… Причиной быстрой сговорчивости был ложный стыд, а иногда и лучшие побуждения — любви, дружбы, снисхождения… но почему же все это побеждало логику?..
…После похорон Ворцеля — 5 февраля 1857, когда все провожавшие разбрелись по домам и я, воротившись в свою комнату, сел грустно за свой письменный стол, мне пришел в голову печальный вопрос: не опустили ли мы в землю вместе с этим праведником и не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией?
Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющим началом при беспрерывно возникавших недоразумениях, исчезла, а недоразумения остались. Частно, лично мы могли любить того, другого из поляков, быть с ними близкими — но вообще одинакового пониманья между нами было мало, и оттого отношения наши были натянуты, добросовестно неоткровенны, мы делали друг другу уступки, то есть ослабляли сами себя, уменьшали друг в друге чуть ли не лучшие силы.
Договориться до одинакого пониманья было невозможно. Мы шли с разных точек — и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластью. Идеал поляков был за ними: они шли к своему прошедшему, насильственно срезанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У них была бездна мощей, а у нас — пустые колыбели. Во всех их действиях и во всей поэзии столько же отчаянья, сколько яркой веры.
Они ищут воскресения мертвых — мы хотим поскорее схоронить своих. Формы нашего мышления, упованья не те, весь гений наш, весь склад не имеет ничего сходного. Наше соединение с ними казалось им то mésallianceʼом, то рассудочным браком. С нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины, — мы сознавали свою косвенную вину, мы любили их отвагу и уважали их несокрушимый протест. Что они могли в нас любить? Что уважать? Они переламывали себя — сближаясь с нами, они делали для нескольких русских почетное исключение.
В острожной темноте николаевского царствования, сидя назаперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда окно немного приотворилось, мы догадались, что нас привели по разным дорогам и что мы разойдемся по разным. После Крымской кампании мы радостно вздохнули, а их наша радость оскорбила: новый воздух в России им напомнил их утраты, а не надежды. У нас новое время началось с заносчивых требований, мы рвались вперед, готовые все ломать… у них — с панихид и упокойных молитв.
Но правительство второй раз нас спаяло с ними. Перед выстрелами по попам и детям, по распятьям и детям, перед выстрелами по гимнам и молитвам замолкли все вопросы, стерлись все разницы… Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков {421} .
Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое слово {422} ; в Париже депутация поляков поднесла мне адрес, подписанный четырьмястами изгнанников, к которому присылались подписи отовсюду, — даже от польских выходцев, живших в Алжире и Америке. Казалось, во многом мы были близки, но шаг глубже — и рознь, резкая рознь бросалась в глаза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: