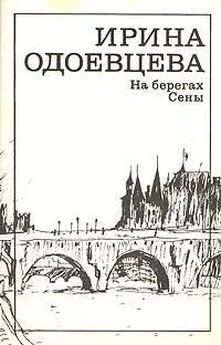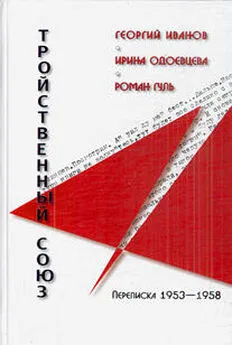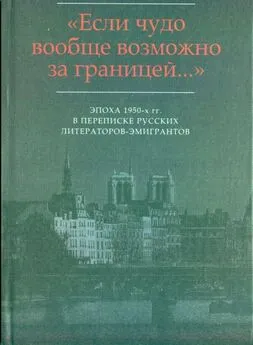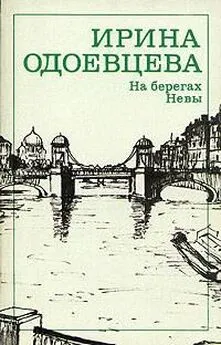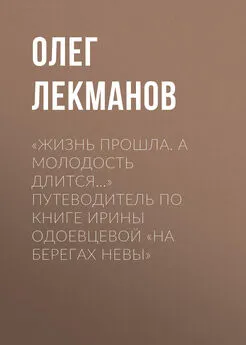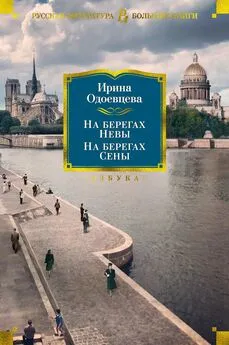Ирина Одоевцева - На берегах Сены
- Название:На берегах Сены
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Одоевцева - На берегах Сены краткое содержание
На берегах Сены - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но Закович, недавно лишь приведенный Поплавским на "воскресенья", скромный и застенчивый молодой поэт, так смутился, что не мог больше связать и двух слов, и только испуганно оглядывался на Поплавского.
После этого случая Мережковский долгое время называл Заковича Тертуллианом.
- Придет сегодня Тертуллиан? - спрашивал он, выходя из своего кабинета к уже собравшимся в столовой гостям. Он всегда выходил с опозданием, тогда как Зинаида Николаевна с самого начала приема, то есть с четырех- часов, уже занимала свое место за чайным столом.
Мережковский был очень, даже чересчур снисходительным к своим собеседникам, преувеличивал их ум и знания и часто находил особую значительность и глубину в самых обыкновенных мыслях и словах, если только они, по Мережковскому, касались метафизики, и он мог оттолкнуться от них, как от трамплина, перелететь в четвертое или в энное измерение, рассыпаясь фейерверком идей.
Глубину, мудрость, мистику он видел часто там, где их вовсе не было,так он однажды неожиданно обнаружил их и во мне. В то воскресенье почему-то решили читать стихи, что не было принято. Стихи читали и о стихах говорили с Зинаидой Николаевной группировавшиеся около нее и не принимавшие участия в дебатах с Мережковским.
Но тут устроили "всеобщий день поэзии", и все присутствующие, не исключая и самого Мережковского, должны были участвовать в нем.
День поэзии происходит в гостиной, поэты выходят на середину комнаты и читают стоя. Я сижу на диване рядом с Зинаидой Николаевной в ожидании своей очереди.
- Вы не застали,- говорит она,- эпохи, когда Димитрий Сергеевич гремел как поэт. Всякие "Сакья Муни", "Песни шута" и тому подобное. Гремел, но гром-то был бутафорский. И до чего он иногда громыхал. О какой-то своей изменнице, еще до меня. Я до слез смеялась. Вот послушайте... И она скандирует с комическим пафосом:
Но если б ты могла понять, какая сила
Была у ног твоих, когда со мной шутя
Играла ты в любовь и все потом разбила.
Не я, а ты в отчаянье немом
Рыдала бы теперь горючими слезами.
- А публике, представьте, нравилось, и критике тоже. И его переводы, Бодлера, например, были под стать:
Голубка моя, умчимся в края,
Где все, как и ты - совершенство!
Он приспособил Бодлера для шарманки. И все шарманки эту "Голубку" играли. Мне было стыдно за него. Она прижимает палец к губам.
- Сейчас Димитрий Сергеевич. Давайте слушать.
Мережковский, держа тетрадку в руке, быстро семеня ногами в синих войлочных туфлях, становится спиной к окну - маленький, сутулый.
Я мысленно переношу его в Петербург конца XIX века, на эстраду громадного, бурлящего и кипящего зала, переполненного студентами и курсистками, и стараюсь представить себе, как он произносил:
Бог, великий Бог лежал в пыли
и овации, которые там устраивали ему.
Он перелистывает страницы тетрадки и с какой-то застенчивой полуулыбкой, не свойственной ему, начинает читать - очень скромно, очень просто и совсем хорошо. И стихи его очень простые, очень скромные и совсем хорошие. Музыкальны, легки и даже чуть-чуть трогательно наивны. О каких-то странниках-паломниках и о прелестной северной русской весне. Они чем-то отдаленно напоминают мне Сологуба.
- Вам нравится? - спрашивает шепотом Гиппиус.
- Очень.
Она кивает.
- Слава Богу, это совсем не то, что прежде. Но теперь это никому не нравится. Димитрий Сергеевич уже давно перестал печатать свои стихи.
После Мережковского читает Гиппиус. С места, сидя на диване. Нараспев. Ясно, сухо, вразумительно, без привычных капризных ноток в голосе:
Какая-то лягушка (все равно)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она о самом важном?
Лягушку мы все знаем наизусть. Хотя аплодировать не полагается, Зинаиде Николаевне все же аплодируют, и это ей явно приятно.
Поэты сменяют поэтов. И о каждом из них Гиппиус - она одна - говорит несколько слов. Она хвалит Адамовича, Мамченко, Терапиано за стихи "В день Покрова" и, конечно, Георгия Иванова.
Голубоватый идет солдат,
Как этот вечер, голубоват,
нараспев выкрикивает один из молодых поэтов.
Зинаида Николаевна наводит на него свой монокль-лорнет и громко шепчет:
- А по-моему, еще лучше было бы: "как этот вечер, глуповат".
Все смеются. Молодой поэт смущается и не хочет продолжать.
- Вздор,- заявляет Гиппиус,- вы не салонная поэтесса, чтобы обижаться.И без всякой последовательности продолжает: - Ко мне раз явились в Петербурге просить стихи для салонного женского альбома, а я им ответила: по половому признаку не объединяюсь! - И кивает в сторону молодого поэта: - Ну, читайте. Не ломайтесь.
Наконец очередь доходит и до меня. Я выхожу на середину гостиной, еще не решив, что буду читать. Я уже совсем не та, что на берегах Невы. Я уже не живу стихами и для стихов и не ношу больше банта. Здесь и то, и другое было бы неуместно и даже смешно.
Здесь стихами интересуются одни поэты, и то эгоистично, даже эгоцентрично - своими собственными стихами. А читателям стихи в лучшем случае безразличны и не нужны.
Русские в эмиграции - и в Берлине, и в Париже - совсем не то, что в Петербурге. Я не узнаю их. И не нахожу с ними общего языка.
Сколько раз я в первый год, в Берлине, хотела вернуться к себе домой. Домой, в Петербург. Нет, мне совсем не нравится "заграница". Ни Берлин, ни даже Париж.
К тому же, и это очень странно, для меня в эмиграции время как будто пошло назад, вспять. Я как будто неожиданно помолодела. Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в "молоденькую поэтессу" и "молодую романистку", как меня постоянно величали в прессе. И что уж совсем дико - я так и оставалась "молодой поэтессой" и "молодой романисткой" бесконечно долго, чуть ли не до окончания войны. Со мной в эмиграции случилось обратное, чем с гадким утенком в сказке Андерсена. Гадкий утенок там превратился в лебедя, я же, напротив, из "лебедя" превратилась в "гадкого утенка".
Вот и сейчас, стоя посреди гостиной, я чувствую, что слишком высоко поднимаю голову и держусь слишком самоуверенно для "гадкого утенка". Я все еще не могу привыкнуть ко всеобщему равнодушию, окружающему меня здесь.
Что мне читать? Ведь здесь никто не знает и не любит моих стихов. Только не слишком длинное. Скоро Рождество - значит, это пойдет.
И я начинаю с моими прежними интонациями, паузами и жестами, как когда-то на берегах Невы:
Белым полем шла,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
На земле и на небе радость
Сегодня Рождество...
Окончив, я возвращаюсь к дивану и сажусь рядом с Зинаидой Николаевной. Она наводит на меня свой лорнет-монокль и улыбается мне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: