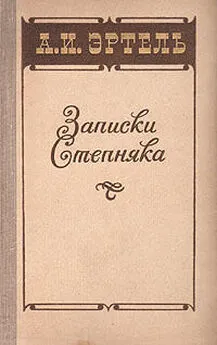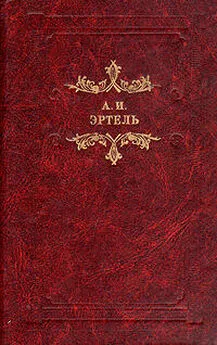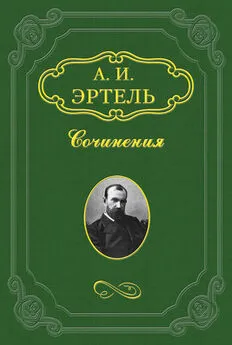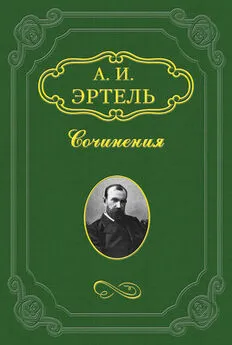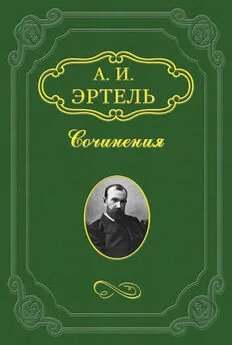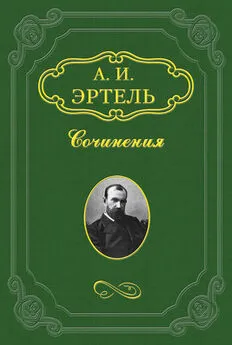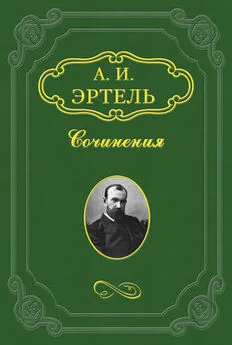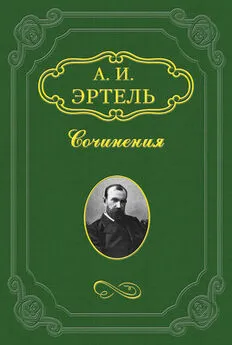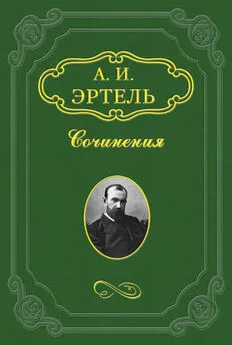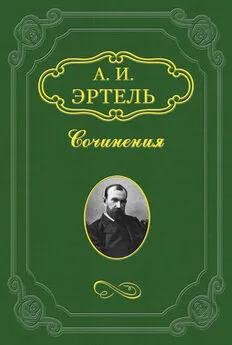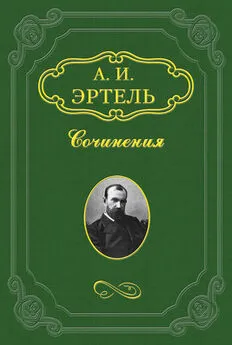Александр Эртель - Записки Степняка
- Название:Записки Степняка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1958
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Эртель - Записки Степняка краткое содержание
В фигурные скобки { } здесь помещены номера страниц (окончания) издания-оригинала.
В электронное издание помещен очерк И. А. Бунина "Эртель", отсутствующий в оригинальном издании.
Записки Степняка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Книга Тургенева, созданная в 40-х годах, рассказывала о времени, когда главным злом было крепостное право, когда в личной зависимости крестьянина от помещика заключен был основной источник тогдашних бедствий и страданий народа. Враг был известен, и ясно было, от чего необходимо избавиться. Внутренние противоречия, развивавшиеся в недрах самой крестьянской жизни, силы, подтачивавшие изнутри основы старого крестьянского «мира», еще не обнаружили себя с достаточной очевидностью, и не о них в ту пору должна была идти речь, — крестьянству нужно было прежде всего получить свободу. {VII}
Тургеневский «охотник» улавливает, и даже специально отмечает, различия всего жизненного поведения, всего облика Хоря и Калиныча. Они и живут по-разному и в очень разном видят близкое своей душе: Хорь деловит, практичен, суров и своим обликом заставляет рассказчика вспомнить о Сократе и Петре Великом; Калиныч совсем не занят делами, он весь в "близости к природе", и душа его бесконечно поэтична. Но в этой «непохожести» Хоря и Калиныча Тургеневу важно, что в крестьянах могут быть найдены все самые замечательные качества, какими может обладать человек, — у одного из них ум Сократа, сила и энергия Петра Великого, у другого — необыкновенная душевная мягкость, красота чувств… Конфликт в рассказе "Хорь и Калиныч" построен на противоречии между бесправным положением крестьян как крепостных, с одной стороны, и безграничностью их внутренних человеческих возможностей с другой. Вопрос о различии между Хорем и Калинычем как проявлении противоречий, складывающихся в среде самого крестьянства, перед Тургеневым еще никак не стоял, хотя увиденное и воспроизведенное им проблему эту в себе уже содержало: не случайно Хорь богат, а Калиныч беден.
Лесник в рассказе «Бирюк» суров и подчас даже жесток со своими же, с мужиками, когда он охраняет господский лес. Но свою суровость он сам «угрюмо» относит на счет службы и говорит: "Должность свою справляю… даром господский хлеб есть не приходится". А "по душе" он остается человечным, готов пожалеть и действительно жалеет провинившегося мужика и только просит охотника "не сказывать" об этом. Поступок его с мужиком, которого он пожалел и отпустил, внутренне для него самого естествен, органичен.
Бурмистр в одноименном рассказе обрисован самим автором "Записок охотника" как человек, угнетающий зависимых от него крестьян. Но, по Тургеневу, возможны подобные отношения потому, что существует крепостное право и Софрон — бурмистр у помещика-крепостника . Характерны в этом смысле и название рассказа и то, что именно в этом рассказе фигура помещика представляет собою одно из самых резких у Тургенева обличений крепостников и крепостничества, (показательно, что этот рассказ привлек внимание В. И. Ленина как пример обличения помещичьего "гуманизма").
Щедрин в статье 1868 года "Напрасные опасения" с полным основанием мог сказать о "Записках охотника", что "Сучок, Ермо-{VIII}лай, Бирюк, Касьян и другие типы, созданные рукою Тургенева, нимало не знакомили нас с крестьянскою средою …" [3] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, М., Гослитиздат, 1937, стр. 67. (Курсив мой. — Я. Б.)
Другое дело, что в 40-х годах, когда все общественные вопросы сводились, по выражению В. И. Ленина, к борьбе с крепостным правом и его порождениями, когда было еще неясно, каков характер отношений, идущих на смену отношениям крепостничества, Тургенев (как, впрочем, и другие прогрессивные писатели тех лет) не мог, а значит, и не должен был освещать крестьянскую жизнь иначе, чем он это делал. Напомним, что еще в 60-х годах борьба шла главным образом с крепостническими по своему существу, а не с новыми, специфически буржуазными формами «хищничества» (если воспользоваться образом-формулой Щедрина).
Перед Степняком предстает русская действительность 70-х годов, в которой сложность и противоречия жизни приобрели уже очевидно новый характер. В первом же очерке из составляющих книгу рассказчик с завистью думает о людях 40-х и 60-х годов, об их счастье: "Вера в них была, цельность была, врага они ясно видели, идеалы свои ощупывали руками… А теперь что, — мы теперь, точно мужик: стащили с него барина, он и не знает, кто его за горло душит. Ясность отношений исчезла; суматоха какая-то всюду, путаница, абракадабра".
И дальше, "под шум вьюги", Степняк узнает, что пьянство в народе растет, "кабаки эти пошли, и дележи, и воровство", и ходок по «мирским» делам продал документы, доверенные ему «миром», за две сотенных тем, с кем тягался «мир». И тягался-то «мир» за луга не с помещиком, а с мужиками соседнего поселка… Правда, как будто есть еще села, где "мирское дело" держится прочней. Но постоянно идет речь о глубоком внутреннем разладе, характеризующем крестьянскую жизнь в новых условиях.
Не понимающие новых обстоятельств, не разбирающиеся в своих правах и правах помещика по отношению к ним в новое время, крестьяне, сами того не сознавая, оказываются бунтовщиками, попадают на поселение в Сибирь. Из других мест люди целыми деревнями бегут в Сибирь от голода. Рушатся старые порядки, старые устои крестьянской жизни, исчезают целые села.
Рассказчика сопровождает во время вьюги совсем обнищавший {IX} крестьянин Григорий. Его потянули в путь обещанные два рубля. "Поехал ли бы он провожать меня, если б у него были в кармане эти несчастные два рубля?" — подумал я. "А тебя-то куда черт нес? — помимо моей воли встал неутешительный вопрос. — "Кто тебе дал право рисковать жизнью людей?.." "Два рубля дали мне это право…" — как-то сам собою сказался иронический ответ, и больно стало на душе…" Так оказывается, что деньги лежат теперь в основе отношений между людьми, в основе всей их жизни, всех их поступков.
Эртель обнаруживает рост социальных противоречий в пределах любого крестьянского «мира».
"От одного корня", "из одной стороны, из одной среды, из одной деревни даже" вышли два крестьянина — Василий Мироныч и Трофим. Первый из них, Василий Мироныч, очень напоминает всем своим обликом тургеневского Хоря. Это о нем говорят: "ума палата", «деляга», "кремень", отзываются о нем даже как о «справедливом». Но Эртель особо указывает, что деловитого, практического Василия Мироныча, самого богатого мужика в Березовке, никто никогда не назовет ни «душевным», ни «мирским» человеком. Понятия «зажиточности», "хозяйственности", с одной стороны, и «душевности» по отношению к людям, единства с «мирскими» интересами, с «мирской» жизнью, с другой, выступают не только как несовместимые, но и как противостоящие друг другу. И рассказчик у Эртеля знает, что сметка, деловитость, "способность к чисто математическим вычислениям" — это не только свидетельство и выражение способности мужика к большому, настоящему делу, к гражданской деятельности, но и характерная черта тех людей из крестьянской среды, "которых принято называть теперь всех вообще «кулаками». Особенность нравственного облика, открытая в русском крестьянине Тургеневым, приводится у Эртеля во внутреннюю связь со своеобразными условиями, с противоречиями "жизни всей среды" в новых социально-исторических обстоятельствах — так в ходе литературного процесса получала свое решение задача, которая, по верному замечанию Щедрина, еще не была (да и не могла быть, — добавим мы от себя) решена ни Тургеневым, ни кем бы то ни было иным в пору, когда создавались "Записки охотника".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: