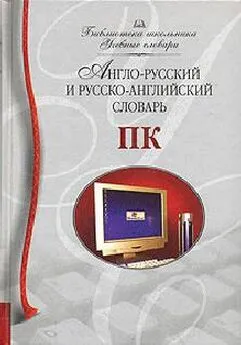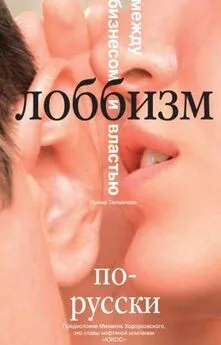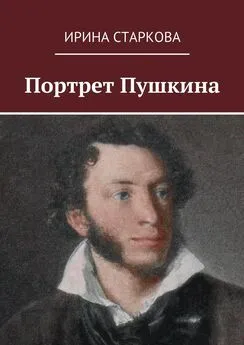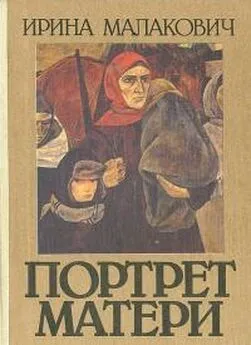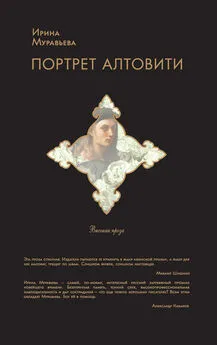Ирина Роднянская - К портретам русских мыслителей
- Название:К портретам русских мыслителей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-066-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Роднянская - К портретам русских мыслителей краткое содержание
В последнее время предпринимаются попытки переоценить значение русской философии в сторону понижения и выведения ее за круг европейского философского и культурного развития. Задача настоящей книги – противостоять этой тенденции и показать в обновленном ракурсе многих ведущих лиц отечественного философствования. В центре книги – три блока текстов, анализирующих духовный масштаб и драматические коллизии мысли первостепенных творцов религиозно-философского ренессанса в России – B.C. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова. Кроме того, здесь освещаются особенности умственного пути таких влиятельных фигур, как Л.И. Шестов, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, Г.П. Федотов.
В соответствии с русской культурной традицией к мыслителям, не в меньшей мере, чем собственно философы, принадлежат великие классики нашей литературы, которые выступали с социальными пророчествами, «с самыми острыми вопросами личности и самыми глубокими вопросами о Боге и мире» (А.А. Блок). Это дает нам основание включить в ряд освещаемых имен А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А.И. Солженицына.
К портретам русских мыслителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между тем Долинин находит для объяснения этой истории самые определенные слова. В своих примечаниях к письмам Достоевского он называет ее «сплетней», с удовольствием взятой на вооружение противниками писателя. Далее он рассматривает измененную версию этой же «сплетни», согласно которой просьба Достоевского насчет «каймы» касалась уже не «Бедных людей», а другого произведении, якобы отданного в проектируемый Белинским сборник («Левиафан»), а оттуда переданного в другое издание. «Ясно, – пишет Долинин, – что для сборника Белинского Достоевским ничего не было приготовлено, и, следовательно, никакого рассказа или повести Достоевского Белинский не передавал в “Современник”», а по поводу «Романа в девяти письмах», написанного «в одну ночь» и напечатанного в отделе «Смеси», – «совершенно невозможно себе представить, чтобы Достоевский мог требовать выделения его особой каймой» 19 19 Достоевский Ф.М. Письма. В 4 т. (1928—1959). Т. 4. М., 1959. С. 414.
. Наконец, комментатор предоставляет слово самому Достоевскому как решающему в этом деле свидетелю: «Ф.М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в “Вестнике Европы” П.В. Анненковым насчет “каймы”, не было и не могло быть, что он никогда не получал стихотворения, якобы сочиненного Некрасовым и Панаевым насчет этой каймы» 20 20 Там же. С. 415. Это заявление было опубликовано в «Новом времени» от 17 мая 1880 г.
.
Но есть сюжет, в отношении которого мерцающая манера полунамеков, эффектной переклички чужих мнений и весь вообще «театр теней» оказываются, если воспользоваться словосочетанием самого Бурсова, «человечески недозволенными»; речь идет о самой мрачной легенде вокруг Достоевского. Тема ставрогинской исповеди действительно терзала сознание Достоевского как крайний предел преступного, как последний «эксперимент» на путях зла. «Достоевский, – с похвальной проницательностью замечает Бурсов, – жил так, как будто репетировал роли едва ли не всех своих героев» 21 21 Звезда. 1970. № 12. С. 127.
. Это вживание в роль, это глубинное соприкосновение с жизнью тех персонажей, которые ищут тьмы и бездны, не могло стоить ему дешево: почти непосильно вынашивать опыт тех, кто одержим злом…
И вот тут-то Бурсов воспроизводит эту черную легенду, ничуть не изменяя своему прежнему двусмысленному тону. Среди дурных «свидетельств», приводимых без опровержения, и случайно вклинившегося несогласия с ними (мнение С.Н. Булгакова), которое мимоходом же отклонено, его собственного прямо выраженного мнения отыскать невозможно. Но зато на свой страх и риск Бурсов берется угадывать, что в глубине души считал по этому страшному поводу тот или иной современник Достоевского. И опять знакомый рефрен: «многие поверили», – предполагающий анонимный, но слаженный хор, готовый огласить истину.
Однако тут явные недоразумения. В качестве одного из «поверивших» выступает Д.С. Мережковский, о котором Бурсов пишет, что он преступление Ставрогина «принял за преступление самого Достоевского» 22 22 Звезда. 1969. № 12. С. 107.
. Между тем из того, что говорит Мережковский в своей книге «Л. Толстой и Достоевский» по этому поводу, как и из всей ее тональности, следует совсем иное. За ответами на «проклятые вопросы» относительно творческой личности Достоевского он обращается к подспудным, подсознательным ее сферам, инициирующим воображение подчас сильнее, чем психологическое «ясновидение» извне: «Конечно, ему самому не надо было убивать старуху, чтобы испытать ощущения Раскольникова. Конечно, тут многое должно поставить на счет ясновидению гения; многое – но всё ли ? <���…> достойно внимания уже и то, что в воображении его могли возникать подобные образы. Вот к чему никогда не было бы способно воображение Л. Толстого, проникавшее, однако, в не менее глубокие, хотя иные бездны сладострастия. Художественного любопытства Достоевского к “укусам тарантула” – к растлению девочки, к любовному приключению Федора Павловича Карамазова с Лизаветою Смердящею – никогда не понял бы Л. Толстой» 23 23 Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Т. 1. СПб., 1903. С. 156—157; то же: М., 2000. С. 82.
. И Мережковский задает вопрос (послуживший соблазном для Бурсова): «Мог ли» Достоевский «все это узнать только по внешнему опыту, только из наблюдений над другими людьми? Есть ли это любопытство только художника?» 24 24 Там же. С. 82.
– вопрос, который предполагает совсем другой ответ, чем тот, который надеялся найти здесь Бурсов. Согласимся мы или нет с тем предположением человеческого «подполья» у Достоевского-художника, которое подразумевается в вопросе Мережковского, ясно одно: речь идет здесь о противоположении внешнему опыту внутреннего, наблюдению – самонаблюдения, а не чужим поступкам – поступка своего. То, что у Мережковского касается внутренней психологической картины навязчивых образов и состояний, сферы субъективных фантазмов, Бурсов относит к жизненной эмпирии, к области объективно-фактического. «Если понимать историю с малолетней как голый биографический факт, то, на мой взгляд, ею вообще не стоит заниматься. Прямых доказательств все равно не найти» 25 25 Звезда. 1969. № 12. С. 135—136.
(автор как будто досадует из-за их нехватки …).
Гроссман однажды заметил, что предъявленные Достоевскому обвинения Страхова тем и безнравственны, что их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Мы не собираемся впрямую обращать эти слова против Бурсова. Страхов был – или считался – близким другом Достоевского, неожиданно его предавшим в письме ко Льву Толстому. Бурсов – не друг, а по статусу своему объективный исследователь, который призван и даже обязан говорить о том, о чем Страхову лучше было бы умолчать. И однако от него можно было ожидать другого тона – не такого уклончивого и недоброжелательно-пристрастного одновременно.
В начале книги Бурсов заявляет ко многому обязывающий тезис: путь к постижению личности Достоевского лежит через его самооценки. Это обещание во многом осталось неисполненным. Бурсов, действительно, проявляет интерес к самооценкам Достоевского (о его внимании к письмам писателя говорилось выше), но он бессилен в них вжиться из-за чуждости ему выразившегося в них жизненного склада. Он их скорее перетолковывает, чем истолковывает. Говоря о Достоевском, он апеллирует к Толстому как к некоторой кардинальной точке отсчета. И это сближает его со Страховым, который как бы отдавал Достоевского на суд Толстого, мысленно даже инсценировал и предвкушал этот суд, подражая позднетолстовскому слогу: «Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что в сущности совпадает)» 26 26 Там же. С. 91.
. Страницы книги Бурсова, посвященные отношению Страхова к Достоевскому, написаны с особым воодушевлением. Анализ этого отношения достаточно тонок, выводы же из него неожиданны и очень существенны для понимания всей книги. По Бурсову, Страхова Достоевский «загипнотизировал» своим гением, заставил увидеть возможность ужасного в каждом человеке вообще и в нем самом, Страхове, в частности. Толстой был тем, в ком Страхов «искал опору для себя» и «спасения от наваждений достоевщины» 27 27 Звезда. 1969. № 12. С. 94.
. Что ж, так оно, вероятно, и было. Страхов попал в орбиту мощного влияния личности Достоевского, влияния чуждого и тягостного ему; он не мог ни справиться с этим влиянием, ни отделаться от него, ни покориться. Он почувствовал себя в плену, а несвобода вызвала озлобление. Не трудно понять, что здесь не последнюю роль сыграла душевная узость Страхова. Однако у Бурсова – и в этом-то неожиданный поворот его размышлений – Страхов определенно играет роль жертвы, оказавшейся в тенетах Мефистофеля-Достоевского, носителя разрушительной силы. Главная беда Страхова, оказывается, была в том, что он общался с Достоевским: «Видимо, и тех, кто часто общался с ним, Достоевский способен был заразить двойничеством, которым было отмечено его собственное сознание и поведение» 28 28 Там же. С. 93.
. И далее: «Я не хочу сказать, что Достоевский одинаково действовал на всех, навязывая достоевщину. Тут многое значили личные качества другого человека. Талантливый литератор и философ, Страхов не обладал ни твердым характером, ни прочными самостоятельными убеждениями» 29 29 Там же.
. Выходит, и сам Страхов виноват (о справедливости этих укоров умолчим). Но в чем же? В том, что был слишком бесхребетен, не обладал иммунитетом против ядов, источаемых Достоевским. Отрицательный эффект воздействия личности Достоевского, как видим, не ставится под сомнение.
Интервал:
Закладка: