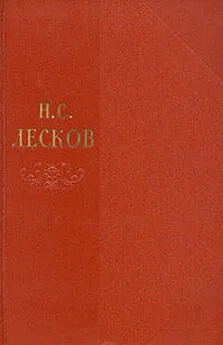Николай Лесков - Том 8
- Название:Том 8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Москва, Художественная литература, 1956-1958
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Лесков - Том 8 краткое содержание
Великий русский писатель Н. С. Лесков стремился в своем творчестве постигнуть жизнь разных классов, социальных групп, сословий России, создать многокрасочный, сложный, во многом еще не изученный образ всей страны в один из самых трудных периодов ее существования.
В восьмой том вошли произведения: "Пугало", "Грабеж", "Человек на часах", "Гора", "Чертовы куклы" и др.
http://rulitera.narod.ru
Том 8 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из приведенного предисловия видно, что Лесков не стремился к протокольно-правдивому, скрупулезно-точному изображению интересующих его лиц и событий. «Дух времени» для него был несравненно важнее документальной передачи того или иного конкретного факта; в центре его внимания — типические черты эпохи в целом, обусловливающие настроения и поведение его «праведников». Так же, как и в «Человеке на часах», в «Инженерах-бессребрениках» Лесков повествует о событиях неторопливо, спокойно, внешне непритязательно, но на этом «спокойном» фоне вырисовывается картина николаевского царствования, подавлявшего и калечившего в человеке благородные мысли и чувства.
Лесков стремился как можно быстрее переиздать «Инженеров-бессребреников» в «Дешевой библиотеке» Суворина. Судя по письму его к А. С. Суворину от 31 октября 1888 года, эта спешка вызвана была, по всей вероятности, какими-то разоблачениями деятельности современной «инженерии», ставшими достоянием периодической печати и воспринимавшимися Лесковым как лишнее подтверждение типичности его зарисовок. В упомянутом письме к Суворину Лесков писал: «Не признали ли бы Вы полезным и выгодным при нынешних обстоятельствах быстро напечатать и издать в «Дешевой библиотеке» или иначе мой рассказ «Инженеры-бессребреники» (из «Русской мысли») — который имел счастие Вам и другим очень нравиться? По-моему, это теперь было бы чрезвычайно своевременно. Жаль, что о нем-то теперь никто и не вспоминает… А он рисует нравы живо и показывает, с коих пор это пошло «в инженерии». На всякий случай прилагаю Вам оттиск, кот<���орый> можно послать в цензуру» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 138). Оттиск попал в духовную цензуру (см. письмо Лескова к В. А. Гольцеву от 20 ноября 1888 года — «Голос минувшего», 1916, № 7–8, стр. 401) и вернулся оттуда не без замечаний, о чем можно догадываться, сопоставляя тексты суворинских изданий с последним прижизненным изданием. В суворинских изданиях совсем нет двух абзацев из главы тринадцатой, в которых зло высмеивается циническое политиканство высшего духовенства (см. абзац «Викарий его за это отечески пощунял…» и следующий абзац). Многозначительные слова: «потому что и сам…» (в абзаце «Викарий известил Фермора…», см. главу четырнадцатую) в суворинских изданиях также отсутствуют, а следующее за этим заключение викария о поведении Фермора звучит не так откровенно и внушительно, как в последнем прижизненном издании (в последнем прижизненном издании: «этак дела идти в государстве не могут»; в суворинских изданиях: «подпоручик осуждает действия старшего генерала»). В конце главы восьмой есть фраза, вносящая особый оттенок в характеристику религиозности Фермора; там говорится, что «Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов». Этой фразы нет в суворинских изданиях. Нет в суворинских изданиях и намека на «странную роль», которую сыграл Антоний Рафальский при приеме почаевской лавры от униатских монахов (см. гл. тринадцатую, абзац «в числе рекомендаций…»). В суворинских изданиях явно смягчено колоритное сравнение (в главе девятой) инженеров-грабителей с духовным «причтом» (в последнем прижизненном издании: «Причетники получали то, что им давал отец настоятель, и никаких частностей всей этой благостыни могли не знать»; в суворинских изданиях: «Причетники же получали то, что им давал начальник, и никаких частностей всей этой операции могли не знать»).
Цензурное разрешение (дано 1 ноября 1838 года, но стало известно Лескову и его издателю значительно позднее, о чем свидетельствует письмо Лескова к В. А. Гольцеву от 20 ноября 1888 года — см. выше) сопровождалось, очевидно, настолько серьезным «внушением» и оговорками, что заставило задуматься даже Суворина. До крайности раздосадованный, Лесков писал ему 28 ноября 1888 года: «Позвольте мне узнать: что Вы решили сделать с «Инженерами»? Приказали Вы их набирать или нет? Я ничего не знаю, а ходить в люди я теперь не могу от стыда и досады, что я нигилист, что ли, или революционер, или дурак набитый, который не понимает, что льзя, и то, чего невозможно» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 142).
Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том десятый, СПб., 1890, стр. 129–142.
Легенда впервые опубликована в газете «Новое время», 1888, № 4347, 5(17) апреля, с посвящением Я. П. Полонскому и следующим авторским примечанием: «Рассказ об египтянке Азе составляет этюд, приводимый здесь отрывком из систематического обозрения Пролога, которое в полном изложении будет напечатано в ежемесячном журнале». [64]В следующем году «Прекрасная Аза» была издана дважды («Совестный Данила и Прекрасная Аза. Две легенды по старинному Прологу», М., 1889; «Прекрасная Аза. Легенда по старинному Прологу». С рис. И. Репина, М., 1889).
Первопечатный текст легенды был сопровожден послесловием, в котором автор писал:
«Житийные книги не почитают Азу святою. Повесть ее — просто есть повесть для чтения, или «пролог», или еще, как говорит Феофан Прокопович, быть может и «басня», но в ней, несомненно, есть поэтическая прелесть и литературное значение, которое стоит отметить.
Русскими стихотворцами было сделано несколько попыток опоэтизировать грешницу, которой «простится много за то, что она много возлюбила» (Луки, VII, 47). Сильнее всех к этому стремился Вс. Вл. Крестовский, и он же достиг того, что выразил свою мысль всех ярче и сильнее: ему принадлежит изображение такой грешницы, которая «милостыню грешным телом подала». [65]Дальше этого ни один поэт идти не отважился, но значительно позже Вс. Крестовского один судебный оратор обошелся с евангельским текстом еще смелее. Впрочем, как поэт, так и судебный оратор одинаково смешивали «любовь многу» с частым или «многим» прегрешением. Они так понимали, что грешить со многими — это, собственно, и значит «любить много».
Критика не хотела или не умела поправить увлечение музы г. Крестовского, но по поводу адвокатской речи покойный Катков заметил, что оратор, очевидно, имел мысль «приурочить слово Христово к Nana». И взаправду, в их смысле Nana, без сомнения, «много любила», но истинный поэтический дар и светлый рассудок, конечно, не могут принять эту любовь за любовь, ради которой милосердье должно «отпустить грехи многи…» Творческая фантазия и до сих пор остается бессильною, чтобы дать нам изображения такого женского лица, к «многим грехам» которого почтительная рука могла бы позволить себе приблизить евангельский текст, не опасаясь понизить высокий смысл его священного значения.
Аза египтянка из Пролога дает нечто такое. Аза много грешна, но грехи ее вышли от многой любви такого рода, которая много грехов покрывает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: