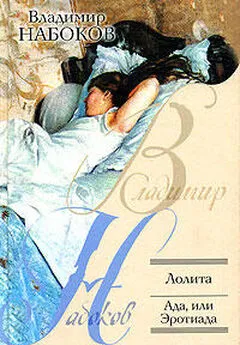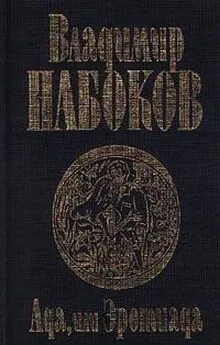Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти. Семейная хроника
- Название:Ада, или Радости страсти. Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти. Семейная хроника краткое содержание
Роман «Ада, или Радости страсти» признан лучшим произведением Владимира Набокова. Это история американизированной знатной русской семьи рубежа XIX – XX веков и истории любви, которая есть судьба. Набоков написал «Аду» за восемь лет до смерти, и роман оказался образцовым примером набоковской сюжетной и лексической виртуозности. Герой романа Ван Вин и его сестра-кузина Ада по родству текстов знакомы набоковскому читателю; радость узнавания и восхищение – вот что ждет того, кто берет в руки эту книгу с намерением прочитать ее.
Ада, или Радости страсти. Семейная хроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Цель, ради которой я пишу «Ткань Времени», тяжкий, упоительный, блаженный труд, итог коего я почти готов поместить на едва забрезживший стол еще отсутствующего читателя, состоит в том, чтобы очистить собственное мое понятие Времени. Я хочу прояснить сущность Времени, не его течение, ибо не верю, что сущность его можно свести к течению. Я хочу приголубить Время.
Можно быть влюбленным в Пространство, в его возможности; возьмите хотя бы скорость, совершенство скорости, ее сабельный свист; орлиный восторг управления ею; радостный визг поворота; и можно быть любителем Времени, эпикурейцем длительности. Я упиваюсь Временем чувственно – его веществом и размахом, ниспаданием складок, самой неосязаемостью его сероватой кисеи, прохладой его протяженности. Мне хочется что-нибудь сделать с ним, насладиться подобием обладания. Я сознаю, что всякий, кто пытался попасть в зачарованный замок, сгинул без вести или завяз в болотах Пространства. Я сознаю также и то, что Время есть жидкая среда, в которой подрастает культура метафор.
Почему это так трудно – так унизительно трудно – сфокусировать разум на понятии Времени и удерживать последнее в фокусе на предмет обстоятельного изучения? Сколько усилий, сколько возни, какая угнетающая усталость! Как будто роешься одной рукой в перчаточном отделении, отыскивая дорожную карту, – выуживая Монтенегро, Доломиты, бумажные деньги, телеграмму, – все что угодно, кроме полоски хаотической местности, лежащей между Ардезом и Чьетосопрано, в темноте, под дождем, пытаясь воспользоваться красным светом, горящим в угольной мгле, в которой метрономически, хронометрически мотаются «дворники»: незрячий палец пространства, тычущий в ткань времени, прорывая ее. Вот и Аврелий Августин тоже, он тоже в своих борениях с этой темой испытывал, пятнадцать столетий назад, эту странную телесную муку мелеющего ума, «щекотики» приблизительности, иносказания изнуренного мозга, – но он-то по крайности мог подзаправить свой разум разлитой Богом энергией (у меня где-то есть заметки о наслаждении, с которым следишь, как он преследует и расцвечивает свою витающую между золой и звездами мысль, по временам забываясь в живительных припадках молитвы).
Опять заблудился. Где я? Где? Грязная дорога. Затормозивший автомобиль. Время – ритм: насекомый ритм теплой, сырой ночи, зыбление мозга, дыхание, дробь барабана в моем виске – вот наши верные хронометристы; а разум лишь подправляет этот лихорадочный такт. Один из моих пациентов умел различать вспышки, следовавшие одна за другой с промежутками в три миллисекунды (0,003!). Поехали.
Что толкнуло меня вперед, что утешило несколько минут тому, когда размышления затормозились? Да. Быть может, единственное, в чем мреет намек на ощущение времени, это ритм; не повторенье биений, но зазор между двумя такими биениями, пепельный прогал в угольной мгле ударов: нежная пауза. Размеренность самих ударов лишь возвращает нас к мизерной идее меры, но в промежутках маячит нечто подобное Времени подлинному. Как мне извлечь его из этой мякотной полости? Ритм должен быть не слишком медленным и не слишком скорым. Одно биенье в минуту лежит уже далеко за пределами моего ощущения следования, а пять колебаний в секунду порождают безнадежную муть. Развалистый ритм разжижает Время, поспешный вытесняет его. Дайте мне, скажем, три секунды, и я смогу проделать и то и другое: проникнуться ритмом, проникнуть в паузу. Полость, сказал я? Тусклая яма? Но это всего лишь Пространство, комедийный прохвост, снова влезающий черным ходом с маятниками, которыми он торгует вразнос, тогда как я стараюсь нащупать смысл Времени. Нет, я хочу изловить как раз то самое Время, которое помогает мне измерить Пространство, – не диво, что поимка собственно Времени мне не дается, поскольку само накопление знаний «отнимает массу времени».
Если глаза сообщают мне кое-что о Пространстве, то уши сообщают нечто о Времени. Но между тем как Пространство доступно для восприятия наивного, быть может, но все-таки непосредственного, – вслушиваться во Время я способен лишь между ударами, в краткие, впалые миги, вслушиваться встревоженно и осторожно, с нарастающим сознанием того, что слушаю я не Время, но кровоток, омывающий мой мозг и шейными венами возвращающийся из него к сердцу, седалищу тайных терзаний, со Временем нимало не связанных.
Направление Времени, ардис Времени, Время с односторонним движением тут присутствует нечто, на миг показавшееся полезным, но в следующий выродившееся до разряда иллюзии, состоящей в неясном родстве с тайнами роста и тяготения. Необратимость Времени (которое прежде всего никуда не обращено) есть следствие узости кругозора: не будь наши органы и орган-роды асимметричны, Время представлялось бы нам амфитеатром, и весьма величавым, похожим на рваную ночь и зубристые горы, обступившие маленькую, мерцающую, мирную деревушку. Говорят, если некое существо утрачивает зубы и становится птицей, то лучшее, на что последняя может рассчитывать, когда ей опять приспеет нужда в зубах, это зазубристый клюв – честных челюстей, которыми она некогда обладала, ей уже не видать. Сцена – эоцен, актеры окаменелости. Занятный пример мухлежа в Природе, однако к сущности Времени, прямого или округлого, он относится так же мало, как то обстоятельство, что пишу я слева направо, к ходу моей мысли.
И, к слову об эволюции, способны ли мы представить происхождение, ступени развития, отвергнутые мутации Времени? Существовала ль когда-нибудь «первичная» форма Времени, у которой, скажем, Прошлое и Настоящее не допускали отчетливой дифференциации, так что прошлые тени и очертания сквозили в еще мягком, протяженном, личиночном «ныне»? Или эта самая эволюция затрагивает только хронометрию, проводя ее от солнечных часов к атомным, а от них к портативным пульсарам? И сколько ушло времени на то, чтобы «древнее время» стало «ньютоновским»? «Ponder the Egg» [312], как призывал своих английских несушек некий галльский петух.
Чистое Время, Перцептуальное Время, Осязаемое Время, Время, свободное от содержания, контекста и комментария – вот мои время и тема. Все остальное представляет собой числовой символ или некий аспект Пространства. Ткань Пространства есть не ткань Времени, но вскормленное релятивистами разномастное четырехмерное посмешище – четвероногое, которому одну из ног заменили на призрак ноги. Мое время является также Бездвижным Временем (мы вскоре отменим «текущее» время, время водяных часов и ватер-клозетов).
То Время, которым я занимаюсь, это всего только Время, остановленное мной и пристально изучаемое моим привычным к времениизъявлению сознанием. И значит, притягивать сюда «проходящее» время было бы праздным и порочным занятием. Разумеется, когда я «испытываю» мыслью слова, я бреюсь дольше обычного; разумеется, я не сознаю этого мешкания, пока не взгляну на часы; разумеется, в возрасте пятидесяти лет мнится, будто каждый год пролетает быстрее, и потому, что он составляет меньшую часть моих разросшихся запасов существования, и потому, что теперь я скучаю реже, чем в детстве – между унылой игрой и еще пуще унылой книгой. Однако такое «ускорение» находится в точной зависимости от степени нашего невнимания к Времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: