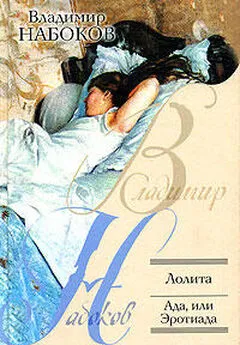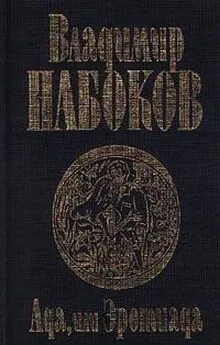Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти. Семейная хроника
- Название:Ада, или Радости страсти. Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти. Семейная хроника краткое содержание
Роман «Ада, или Радости страсти» признан лучшим произведением Владимира Набокова. Это история американизированной знатной русской семьи рубежа XIX – XX веков и истории любви, которая есть судьба. Набоков написал «Аду» за восемь лет до смерти, и роман оказался образцовым примером набоковской сюжетной и лексической виртуозности. Герой романа Ван Вин и его сестра-кузина Ада по родству текстов знакомы набоковскому читателю; радость узнавания и восхищение – вот что ждет того, кто берет в руки эту книгу с намерением прочитать ее.
Ада, или Радости страсти. Семейная хроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В любви же Ада, при том, что отрочество ее было во многих иных отношениях исполнено скорбей и сомнений, стала еще отзывчивей и истовей, чем в пору ее неестественно страстного детства. Усердному исследователю клинических случаев, доктору Вану Вину так и не удалось окончательно совместить в своих представлениях пылкую двенадцатилетнюю Аду с какой-либо из описанных в его заметках английской девочкой, – лишенной и преступных, и нимфоманиакальных наклонностей, прекрасно развитой в умственном отношении, духовно удовлетворенной и вообще совершенно нормальной, хотя подобные девочки во множестве расцветали (и отцветали впустую) по обветшалым замкам Франции и Эстотии, о чем свидетельствуют пухлые романы и маразматические мемуары. А исследовать и анализировать свою страсть к ней Вану было еще труднее. Вспоминая, негу за негой, сеансы в «Вилле Венус» или свои совсем еще ранние посещения борделей на берегах Ливиды и Ранты, он убеждался в том, что волнение, вызываемое в нем Адой, не идет со всем этим ни в какое сравнение, ибо простая прогулка ее пальца или губ вдоль его вздутой вены немедля порождала delicia [102]не только более мощные, но по существу своему отличные от тех, что вызывались самым медлительным «уинслоу» самой дельной и юной гетеры. Что же в таком случае поднимало животный акт на уровень даже высший, нежели уровень точнейшего из искусств или неистовейшего из безумств чистой науки? Довольно ли будет сказать, что предаваясь с Адой любви, он открывал для себя язвящие наслаждения, огонь, агонию высшей «реальности»? Реальности, скажем точнее, лишившейся кавычек, бывших ей вместо когтей, – в этом мире, где независимые и своеобычные умы вынуждены цепляться за вещественность, а то и раздирать ее в клочья, дабы отогнать от себя безумие или смерть (каковая есть господин всех безумий). Пока длились одно или два содрогания, он пребывал в безопасности. Новая нагая реальность не нуждалась ни в щупальцах, ни в якорях; она существовала лишь миг, но допускала воспроизведение, частое настолько, насколько он и она сохраняли телесную способность к соитию. Окрас и огонь этой мгновенной реальности зависели единственно от личности Ады – такой, какой она представала в его восприятии. Она ничего не имела общего с добродетелью или с тщетой добродетели в широком смысле последнего слова, – скажем больше, впоследствии Вану мерещилось, будто он во всех нежных восторгах того лета сознавал, что Ада мерзко изменяла ему, изменяет и ныне, – точно так же, как она задолго до его признаний знала, что в пору их разлуки он время от времени использовал живые механизмы, у которых перенатуженные мужчины находят минутное облегчение, как то описано с присовокуплением многих гравюр и фотографий в трехтомной «Истории проституции», прочитанной ею то ли в десять, то ли в одиннадцать лет, между «Гамлетом» и «Микрогалактиками» капитана Гранта.
Для осведомления ученых, которым предстоит, тайком распаляясь (и они тоже люди), читать этот запретный мемуар в тайных расселинах библиотек (там, где благоговейно хранятся побасенки и похвальбы полусгнивших похабников), – автор его считает необходимым приписать на полях гранок, которые героически правит прикованный к постели старик (как и сами эти длинные и скользкие змеи добавляют заключительный штрих к печалям писателя), еще несколько [конец предложения разобрать невозможно, но, по счастью, следующий абзац был криво нацарапан на отдельном листке блокнота. Приписка Издателя].
...об упоительности ее личности. Ослы, которым может и впрямь показаться, будто мое, Вана Вина, и ее, Ады Вин, соитие – где-то в Северной Америке, в девятнадцатом веке, – будучи наблюдаемым в звездном свете вечности, представляет собой лишь одну триллионную от триллионной части истинной значимости этой плевой планеты, пусть отправляются со своими воплями ailleurs, ailleurs, ailleurs (в английском и русском отсутствует необходимый звукоподражательный элемент), ибо под микроскопом реальности (каковая, в конце концов, есть всего лишь реальность, не более), упоительность ее личности являет сложнейшую систему тех тонких мостков, по которым чувства, – смеясь, обнимаясь, бросая в воздух цветы, – проходят от мездры к мозгу, систему, которая всегда была и навеки останется формой памяти, даже в самый миг восприятия. Я слаб. Я дурно пишу. Я могу умереть нынче ночью. Мой волшебный ковер больше уже не скользит над коронами крон, над зиянием гнезд, над ее редчайшими орхидеями. Вставить.
36
Педантичная Ада сказала однажды, что рыться в словарях ради чего бы то ни было, кроме поисков точного выражения – в образовательных или художественных целях, – это занятие, место которому где-то между подбором цветов для букета (способным, говорила она, в пору заносчивого девичества показаться умеренно романтичным) и составлением красочных коллажей из разрозненных бабочкиных крыльев (забава всегда вульгарная, а зачастую и просто преступная). Per contra [103], внушала она Вану, словесный цирк «слова-акробаты», «фокусы-покусы» и прочее – быть может, искупается качеством умственных усилий, потребных для создания великих анаграмм или вдохновенных каламбуров, и уж во всяком случае не исключает услуг, неохотных или любезных, со стороны словаря.
Вот почему она приняла «Флавиту». Название этой построенной на тасовке и перетасовке букв старинной русской игры, столь же азартной, сколь хитроумной, происходит от слова «алфавит». Около 1790 года она была очень модной по всей Эстотии и Канадии, затем, в начале девятнадцатого века, ее возродили к жизни «безумные шляпники» (как некогда называли жителей Нового Амстердама), затем после недолгого забвения, году этак в 1860-м, состоялось ее триумфальное возвращение, а ныне, целое столетие спустя, изобретенная заново неким гением, ничего не ведавшим о ее исходной форме или формах, она, как мне говорили, сызнова входит в моду под названием «Скрэббл».
В пору Адиного детства почти во всех больших загородных усадьбах играли в коренную, русскую ее разновидность, требовавшую 125-ти фишек с буквами. Цель игры состояла в том, чтобы построить ряды и шеренги слов на 225-клеточной доске. Из этих клеток 24 были коричневыми, 12 черными, 16 оранжевыми, 8 красными, а остальные золотисто-желтыми (т.е. флавиновыми, в соответствии с исходным названием игры). Каждой букве русского алфавита отвечало некоторое количество очков (редкостной «Ф» целых десять, дюжинной «А» всего одно). Коричневый цвет удваивал вес буквы, черный утраивал. Оранжевый удваивал, а красный утраивал сумму очков, набираемых словом. Люсетта вспоминала впоследствии, какие чудовищные обличия принимали в бреду, порожденном свирепой стрептокковой лихорадкой, свалившей ее в Калифорнии в сентябре 1888-го, триумфы ее сестры по части удвоения, утроения и даже удевятерения (при прохождении через две красных клетки) стоимости слов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: