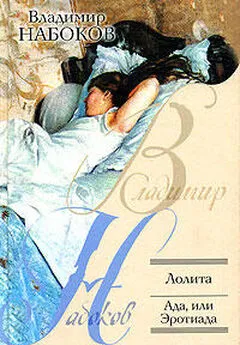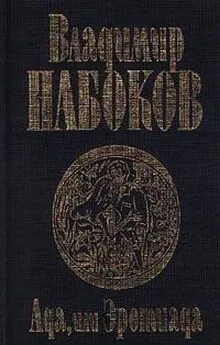Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти. Семейная хроника
- Название:Ада, или Радости страсти. Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти. Семейная хроника краткое содержание
Роман «Ада, или Радости страсти» признан лучшим произведением Владимира Набокова. Это история американизированной знатной русской семьи рубежа XIX – XX веков и истории любви, которая есть судьба. Набоков написал «Аду» за восемь лет до смерти, и роман оказался образцовым примером набоковской сюжетной и лексической виртуозности. Герой романа Ван Вин и его сестра-кузина Ада по родству текстов знакомы набоковскому читателю; радость узнавания и восхищение – вот что ждет того, кто берет в руки эту книгу с намерением прочитать ее.
Ада, или Радости страсти. Семейная хроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Пожалста, без глупостей, особенно devant les gens, – сказала чрезвычайно польщенная Марина (выговаривая последнее «s» совсем как ее великосветские дамы), и дождавшись, пока неторопливый слуга, пожевывая рыбьим ртом, унесет задравшего к потолку лапы и выкатившего грудь Така вместе с его жалкой игрушкой, продолжала: – Но и то сказать, в сравнении с соседскими дочерьми – с той же Грейс Эрмининой или с Кордулой де Прей, Ада у нас ни дать ни взять тургеневская девушка, а то и девица из Джейн Остин.
– Вообще-то я – Фанни Прайс, – вставила Ада.
– В сцене на лестнице, – прибавил Ван.
– Не будем обращать внимания на их шуточки, – сказала Демону Марина. Я никогда не могла разобраться в их играх и маленьких тайнах. Впрочем, мадемуазель Ларивьер написала чудный сценарий об удивительных детях, совершающих странные поступки в старинных парках, – только не позволяй ей распространяться сегодня о ее литературных успехах, иначе она нам весь вечер испортит.
– Надеюсь, твой муж не слишком задержится, – сказал Демон. – Сама знаешь, после восьми по летнему времени он всегда не в своей тарелке. Кстати, как Люсетта?
В этот миг Бутеллен величаво распахнул обе створки дверей, и Демон подставил Марине свернутую калачиком руку. Ван, на которого в присутствии отца порою накатывало прискорбное озорство, вознамерился подобным же манером ввести в столовую Аду, но та с родственной sans-gene [127], которую вряд ли одобрила бы Фанни Прайс, шлепнула его по руке.
Еще один Прайс, типичный, чересчур типичный старый слуга, которого Марина (и Г.А. Вронский в пору их краткого романа) невесть почему называла «Грибом», поместил во главе стола ониксовую пепельницу – Демон любил подымить между переменами блюд, сказывались русские предки. Боковой столик был, тоже на русский манер, заставлен красными, черными, серыми, бланжевыми закусочками, – салфеточную икру отделяла от свежей телесная тучность соленых грибков, подберезовиков и белых, розовость копченого лосося спорила с багрянцем вестфальской ветчины. На отдельном подносе мерцали разнообразные водочки. Французскую кухню представляли chaudfroids и foie gras [128]. В темной, неподвижной листве за раскрытым окном с грозной поспешностью свиристели сверчки.
То был – сохраним повествовательный лад – приятный, обстоятельный, обаятельный обед, и хотя разговор почти целиком сводился к семейственным прибауткам и бойким банальностям, этой встрече предстояло остаться в памяти странно значительным, пусть и не сплошь приятным переживанием. Подобным опытом дорожишь примерно так же, как воспоминанием о внезапной влюбленности в какую-нибудь картину, вспыхнувшей при посещении живописной галереи, или грезовым ладом, грезовыми подробностями, смысловым богатством красок и обликов, присущими иному сновидению, во всех прочих отношениях пустому. Стоит отметить, что отчего-то в тот вечер все были не в лучшей форме – даже читатель, даже Бутеллен (раскрошивший, увы, бесценную пробку). Неприметная примесь фарса и фальши витала над вечером, не позволяя и ангелу, – если ангелы способны заглядывать в Ардис, – испытывать непринужденность; и все же то был волшебный спектакль, которого ни один художник не позволил бы себе пропустить.
Скатерть и свечи сверкали, маня мотыльков – и порывистых, и пугливых, – и подстрекаемая привидением Ада помимо собственной воли признавала меж ними многих своих «порхливых приятелей». Белесые пришлецы, которым только и нужно было, что расправить хрупкие крылья на какой-нибудь лучезарной поверхности, потолочные хлопотуны в боярских мехах, какие-то плотного сложения ракалии с косматыми сяжками и, наконец, чума вечеринок, багровотелые, в черных поясках бражники, безмолвно или погуживая, вплывали или врывались в столовую из отсырелой темной и теплой ночи.
Не следует, ни в коем разе не следует забывать, что стояла сырая, темная и теплая ночь середины июля 1888 года, что дело происходило в Ардисе, в округе Ладора, и что за овальным обеденным столом, сиявшим хрусталем и цветами, сидела семья из четырех человек – это не сцена из пьесы, как может, да что там может – должно показаться, – которую зритель (вооружась фотокамерой или программкой) наблюдает из бархатной бездны сада. Шестнадцать лет пролетело с окончания трехлетней любви Марины и Демона. Различной длины антракты – разрыв на два месяца весной 1870-го и другой, почти на четыре, в середине 1871-го – в ту пору лишь обостряли нежность и непереносимость этой любви. Ее на редкость огрубевшие черты, ее наряд, это облепленное блестками платье, мерцание сетки на розово-русых волосах, красная, обожженная солнцем грудь и мелодраматический грим с избытком охры и терракоты даже отдаленно не напоминали мужчине, любившему ее пронзительнее, чем любую из женщин, с которыми он распутничал, натиска, блеска и лиризма, присущих некогда красоте Марины Дурмановой. Демона это удручало – этот глубокий обморок прошлого, разбредшиеся кто куда музыканты его странствующего двора, логическая невозможность соотнести сомнительную явь настоящего с бессомненной прошлого. Даже hors-d'oeuvres [129]на «закусочном столе» усадьбы Ардис, даже стенная роспись ее столовой никак не связывались с их petits soupers, хотя, Бог свидетель, три главных столпа, на которых зиждилась любая трапеза Демона, были всегда одинаковы – соленые молодые грибочки, схожие тесными шлемиками с шахматной пешкой, серый жемчуг свежей икры и паштет из гусиной печенки, утыканный периньонскими трюфелями.
Демон забросил в рот последний кусочек черного хлеба с упругой молодой лососинкой, проглотил последнюю стопочку водки и занял место насупротив Марины, усевшейся на другом конце продолговатого стола, за большой бронзовой вазой с похожими на творенье ваятеля яблоками «кальвиль» и виноградом «персты». Алкоголь, уже усвоенный его могучим организмом, помог, по обыкновению, распахнуть то, что он на галльский манер именовал «заколоченными дверьми», и теперь, бессознательно приоткрыв рот, как делают, расправляя салфетку, все мужчины, он разглядывал вычурную прическу Марины (фасон ciel-etoile) и пытался постигнуть (в редкостном – полном значении этого слова), пытался овладеть реальностью факта (силком загнав его в чувственный фокус), согласно которому именно эту женщину он любил нестерпимо, и именно эта женщина любила его надрывно и прихотливо, требуя, чтобы они обладали друг дружкой на коврах и подушках, брошенных на пол («как делают все добропорядочные люди в долине Тигра и Евфрата»), именно она могла через две недели после родов со свистом летать по пушистым склонам на бобслейных салазках или прикатить на Восточном экспрессе – с пятью сундуками, прадедом Така и горничной – в руководимую доктором Стеллой Оспенко ospedale [130], где он оправлялся от царапины, полученной на сабельной дуэли (и все еще заметной теперь, почти семнадцать лет спустя – беловатый рубец под восьмым ребром). Не странно ли, что встречая на исходе долгой разлуки приятеля или толстую тетеньку, которую любил в детстве, немедленно ощущаешь воскрешение теплых чувств, между тем как при встрече с прежней возлюбленной этого никогда не случается, – как будто то человеческое, что содержалось в твоей привязанности к ней, оказалось сметенным вместе с прахом нечеловеческой страсти в ходе некоей операции тотального уничтожения. Он еще раз взглянул на Марину и покивал, подтверждая, что суп превосходен, – нет, все же эта немного кряжистая женщина, по всей вероятности добросердечная, но норовистая и с брюзгливым лицом, лоснящимся (нос, лоб и все остальное) от коричневатого масла, которое она считала более «молодящим», нежели пудра, все же она чужее ему, чем Бутеллен, который однажды на руках вынес ее, изобразившую обморок, из ладорской виллы и погрузил в таксомотор – вслед за последней, самой последней ссорой, в канун ее венчания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: