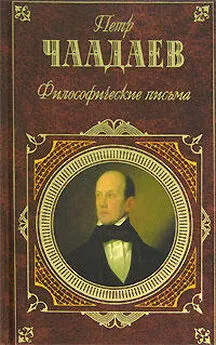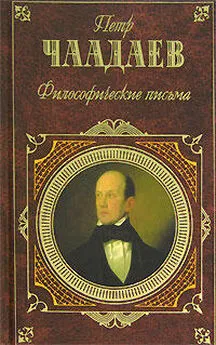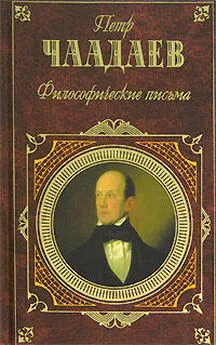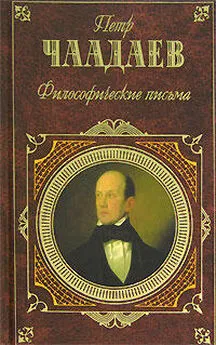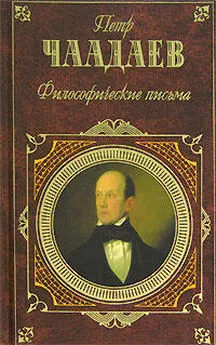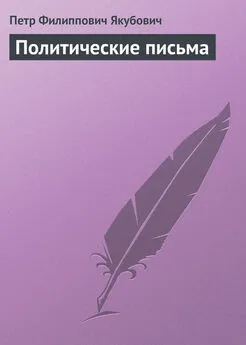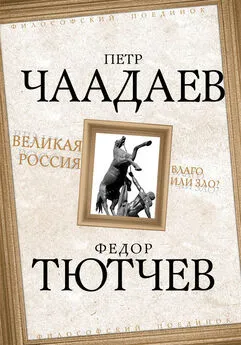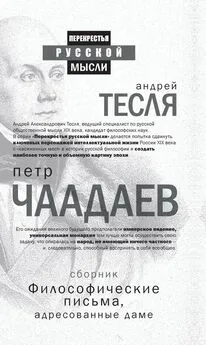Петр Чаадаев - Философические письма (сборник)
- Название:Философические письма (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2006
- Город:М.:
- ISBN:5-699-17685-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Чаадаев - Философические письма (сборник) краткое содержание
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.
Содержание сборника:
Философические письма
Апология сумасшедшего
Отрывки и афоризмы
Письма
Статьи и заметки
Философические письма (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Федор Глинка на полученную также в подарок от Жихарева фотографию отвечал стихами:
Друг Пушкина любимый, задушевный,
Всех знаменитостей тогдашних был он друг.
Умом его беседы увлеченный,
Кругом его умов теснился круг. [400]
По свидетельству И.С. Гагарина, известный немецкий философ Шеллинг считал Чаадаева «самым умным из известных ему умов». «Великий немец вами бредит, – сообщал последнему из Германии А.С. Цуриков, – ловит везде русских и жадно расспрашивает о вас». [401]
Творчество Чаадаева высоко оценивал Чернышевский. «Петру Яковлевичу Чаадаеву в знак глубокого уважения» [402], – написал Герцен на экземпляре своей книги «Кто виноват?».
Биография Чаадаева на первый взгляд не примечательна. Он родился 27 мая 1794 года в дворянской семье. Его мать, Наталья Михайловна Щербатова, была дочерью известного историка и публициста XVIII века М.М. Щербатова. Рано лишившись родителей, Чаадаев воспитывался теткой Анной Михайловной Щербатовой, а затем дядей Дмитрием Михайловичем Щербатовым. Проучившись несколько лет в Московском университете, он вступил в гвардию и принял участие в борьбе с наполеоновским нашествием. Героический участник Отечественной войны 1812 года быстро продвигался по службе, но неожиданно отказался от блестящей военной и придворной карьеры. Сблизившись с декабристами, он и в их обществе не нашел удовлетворения своим духовным запросам. Во время поездки по Европе (1823—1826 гг.) Чаадаев испытал нравственный кризис, осмыслению которого после возвращения в Россию он посвятил несколько лет отшельнической жизни, сменившейся затем активным участием в жизни московских салонов. «Просвещенный ум», «художественное чувство», «благородное сердце», проявлявшиеся в беседах и по коренным проблемам бытия, и по животрепещущим вопросам социальной жизни, принесли ему известность и авторитет. Эти проблемы и вопросы зачастую обсуждались им и в письмах, которые в таких случаях теряли интимный характер, ходили по рукам, копировались и обсуждались в различных кружках. П.А. Вяземский называл Чаадаева «преподавателем с подвижной кафедры», которую он до самой смерти 14 апреля 1856 года переносил из салона в салон и которая служила основной формой распространения его мысли.
Известность Чаадаева своеобразно возросла в результате возбуждающего воздействия на русское общественно-литературное мнение его первого философического письма, опубликованного в 1836 году в журнале «Телескоп»."…Одним «философическим письмом» , – замечал Плеханов, – он сделал для развития нашей мысли бесконечно больше, чем сделает целыми кубическими саженями своих сочинений иной трудолюбивый исследователь России «по данным земской статистики» или бойкий социолог фельетонной «школы» [403]. Эта публикация способствовала уточнению, углублению и размежеванию различных концепций исторического развития России, заставляла философов, писателей, художников ставить и исследовать принципиально важные, но систематически не разрабатывавшиеся проблемы. «Письмо Чаадаева… – писал Аполлон Григорьев, – было тою перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлеченно поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый». [404]
Рассуждая на журнальных страницах о своеобразии судьбы России и ее роли в движении мировой истории, Чаадаев вынес суровый и безысходный приговор: "…тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании… Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя». [405]
Такой вывод единственной напечатанной при жизни Чаадаева крупной работы стал источником всевозможных искажающих его личность легенд, в которых он представал ненавистником России, перешедшим в католичество апологетом римской церкви, безусловным поклонником Запада. Но достаточно привести только одну цитату (а таких цитат можно найти в произведениях Чаадаева много), чтобы убедиться в односторонности подобных суждений. В «Апологии сумасшедшего», написанной Чаадаевым в 1837 году, читаем: "…у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великим трибуналом человеческого духа и человеческого общества». [406]
Как двигалась мысль философа и публициста от одной оценочной интонации к другой? В чем сущность отношения Чаадаева к родине?
Особенности его отношения к русскому прошлому, настоящему и будущему формировались под воздействием таких явлений национальной общественной жизни, как крепостничество и самодержавие времени Николая I. Это воздействие достаточно исследовано. Менее изучена подвижность всего комплекса идей мыслителя, взаимосвязь и развитие его религиозно-философских и социально-исторических представлений – от посылок до выводов. Пушкин, прочитав в рукописи отдельно от других два философических письма, сообщал Чаадаеву: «Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен» [407]. Осведомленность читателя в особенностях творчества Чаадаева зависит не столько от знакомства с нашумевшим «телескопским» письмом и тем более с отзвуками на него, сколько от внимания к внутренней логике всех философических писем, а также других его произведений в их неразрывном единстве.
1
Со своей «подвижной кафедры» Чаадаев проповедовал идеи, связанные с таинственным смыслом исторического процесса в целом, с ролью отдельных стран, в частности России, в судьбах всего человечества. Он выражал на свой лад общую для эпохи тягу сознания к историзму, к философскому осознанию протекших и грядущих веков. Так, например, в начале 30-х годов Гоголь, по свидетельству В. В. Григорьева, был побежден мыслью, что он «создан историком и призван к преподаванию судеб человечества» [408]. Герцен же в начале 40-х годов замечал: «История поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, – мы, как Янус, смотрим вперед». [409]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: