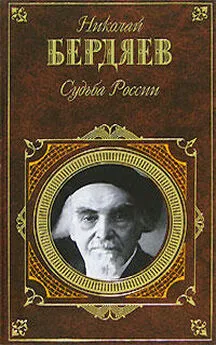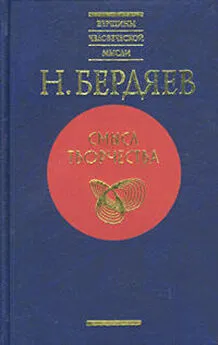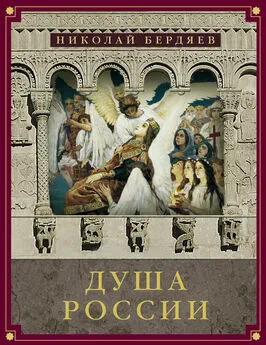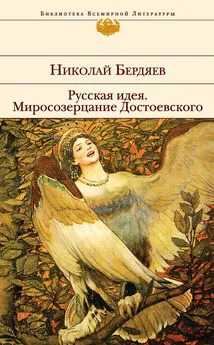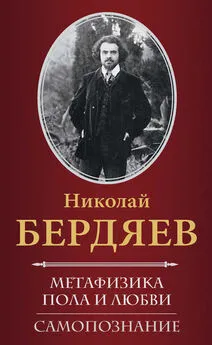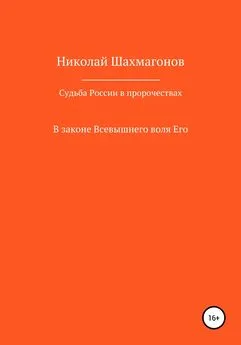Николай Бердяев - Судьба России (сборник)
- Название:Судьба России (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2007
- Город:М.:
- ISBN:5-699-19687-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Бердяев - Судьба России (сборник) краткое содержание
Известный русский философ и публицист Н.А.Бердяев в книге «Судьба России» обобщил свои размышления и прозрения о судьбе русского народа и о судьбе российского государства. Государство изменило название, политическое управление, идеологию, но изменилась ли душа народа? Что есть народ как государство и что есть народ в не зависимости от того, кто и как им управляет? Каково предназначение русского народа в семье народов планеты, какова его роль в мировой истории и в духовной жизни человечества? Эти сложнейшие и острейшие вопросы Бердяев решает по-своему: проповедуя мессианизм русского народа и веруя в его великое предназначение, но одновременно отрицая приоритет государственности над духовной жизнью человека.
Содержание сборника:
Судьба России
Русская идея
Судьба России (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К концу XIX в. в России возникли апокалиптические настроения, связанные с чувством наступления конца мира и явления антихриста, т. е. окрашенные пессимистически. Ожидали не столько новой христианской эры и пришествия Царства Божьего, сколько царства антихриста. Это было глубокое разочарование в путях истории и неверие в существование еще исторических задач. Это был срыв русской идеи. Некоторые склонны объяснять это ожидание конца мира предчувствием конца русской империи, русского царства, которое почиталось священным. Главными выразителями этих апокалиптических настроений были К. Леонтьев и Вл. Соловьев. Апокалиптический пессимизм К. Леонтьева имел два источника. Философия истории и социология К. Леонтьева, которая имела биологическую почву, учили о неотвратимом наступлении дряхлости всех обществ, государств и цивилизаций. Он связывал эту дряхлость с либерально-эгалитарным прогрессом. Дряхлость для него означала также уродство, гибель красоты, связанной с былым цветом культуры. Эта социологическая теория, претендующая на научность, сочеталась у него с религиозной апокалиптической настроенностью. Огромное значение в возникновении этих мрачных апокалиптических настроений имела потеря веры в возможность еще в России оригинальной цветущей культуры. Он всегда думал, что все непрочно и неверно на земле. К. Леонтьев слишком натурализировал конец мира. Дух никогда и нигде не является у него активным, у него нет свободы. Он никогда не верил в русский народ, и оригинальных результатов он ждал совсем не от русского народа, а от навязанных ему сверху византийских начал. Но наступал момент, когда это неверие в русский народ делается острым и безнадежным. Он делает страшное предсказание: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всего другого по смертному пути всесмешения… и мы неожиданно из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных, – родим антихриста». Ни к чему другому русский народ не способен. К. Леонтьев предвидел русскую революцию и многое угадал в ее характере. Он предвидел, что революция будет сделана не на розовой воде, что в ней не будет свободы, свобода будет совсем отменена, и что для революции потребуются вековые инстинкты повиновения. Революция будет социалистической, а не либеральной и не демократической. Защитники свободы будут сметены. Предсказывая ужасную и жестокую революцию, К. Леонтьев вместе с тем сознает, что вопрос об отношении между трудом и капиталом должен быть разрешен. Он был реакционером, но он признавал безнадежность реакционных принципов и неотвратимость революции. Он предвидел не только русскую, но и мировую революцию. Это предчувствие неотвратимости мировой революции принимает апокалиптическую форму, и она представляется наступлением конца мира. «Антихрист идет!» – восклицает К. Леонтьев. Понимание Апокалипсиса было у него совершенно пассивное. Человек не может ничего сделать, может лишь спасать свою душу. К. Леонтьева эстетически привлекает этот апокалиптический пессимизм, ему нравится, что на земле правда не восторжествует. У него не было русской жажды всеобщего спасения, он совсем не был устремлен к преображению человечества и мира. В сущности, ему была чужда идея соборности и идея теократии. Он обличал Достоевского и Л. Толстого в розовом христианстве, гуманитаризме. Эсхатологизм К. Леонтьева носит отрицательный характер и совсем не характерен для русской эсхатологической идеи. Но ему нельзя отказать в остроте и радикализме мысли, а часто и в исторической проницательности.
Под конец жизни настроение Вл. Соловьева очень меняется, оно делается мрачно-апокалиптическим. Он пишет «Три разговора», в которых есть скрытая полемика с Л. Толстым, и к ним прилагается «Повесть об антихристе». Он окончательно разочаровывается в своей теократической утопии, не верит более в гуманистический прогресс, не верит в свое основное – в богочеловечество, или, вернее, идея богочеловечества для него страшно суживается. Им овладевает пессимистический взгляд на конец истории, который он чувствует приближающимся. В «Повести об антихристе» Вл. Соловьев прежде всего сводит счеты со своим собственным прошлым, со своими теократическими и гуманитарными иллюзиями. Это – прежде всего крах теократической утопии. Он не верит больше в возможность христианского государства, неверие очень полезное и для него, и для всех. Но он идет дальше, он не верит в исторические задачи вообще. История кончается, и начинается сверхистория. Соединение церквей, которое он продолжает желать, происходит за пределами истории. По своим теократическим идеям, Вл. Соловьев принадлежит прошлому. Он от этого отжившего прошлого отказывается, но входит в пессимистическую и апокалиптическую настроенность. Между теократической идеей и эсхатологией существует противоположность. Теократия, осуществленная в истории, исключает эсхатологическую перспективу, она делает конец как бы имманентным самой истории. Церковь, понятая как царство, христианское государство, христианская цивилизация ослабляют искание Царства Божьего. Раньше у Вл. Соловьева было слабое чувство зла. Теперь чувство зла делается преобладающим. Он ставит себе очень трудную задачу начертать образ антихриста, он делает это не в богословской и философской форме, а в форме повести. Это оказалось возможным осуществить только благодаря шутливой форме, к которой он так любит прибегать, когда речь шла о самом заветном и интимном. Многих это шокировало, но шутливость эта может быть понята, как стыдливость. Я не разделяю мнения тех, которые чуть ли не выше всего у Вл. Соловьева ставят «Повесть об антихристе». Она очень интересна, и без нее нельзя было бы понять путь Вл. Соловьева. Но повесть принадлежит к неверным и устаревшим толкованиям Апокалипсиса, в которых слишком многое принадлежит времени, а не вечности. Это – пассивная, не активная и не творческая эсхатология. Нет ожидания новой эпохи Св. Духа. В начертании образа антихриста ошибочным является то, что он изображается человеколюбцем, гуманитаристом, он осуществляет социальную справедливость. Это как бы оправдывало самые контрреволюционные и обскурантские апокалиптические теории. В действительности, говоря об антихристе, вернее сказать, что он будет совершенно бесчеловечен и будет соответствовать стадии крайней дегуманизации. Более прав Достоевский, изображая антихристово начало прежде всего враждебным свободе и презирающим человека. «Легенда о Великом Инквизиторе» много выше «Повести об антихристе». Английский католический писатель Бенсон написал роман, очень напоминающий «Повесть об антихристе». Все это находится в линии, обратной движению к активно-творческому пониманию конца мира. Учение Вл. Соловьева о богочеловечестве, доведенное до конца, должно бы привести к активной, а не пассивной эсхатологии, к сознанию творческого призвания человека в конце истории, которое только и сделает возможным наступление конца мира и второе пришествие Христа. Конец истории, конец мира есть конец богочеловеческий, он зависит и от человека, от человеческой активности. У Вл. Соловьева не видно, каков же положительный результат богочеловеческого процесса истории. Раньше он ошибочно представлял себе его слишком эволюционным. Теперь он верно представляет себе конец истории катастрофическим. Но катастрофизм не значит, что не будет никакого положительного результата творческого дела человека для Царства Божьего. Единственным положительным у Вл. Соловьева является соединение церквей в лице папы Петра, старца Иоанна и доктора Паулуса. Православие оказывается наиболее мистическим. Эсхатология Вл. Соловьева все-таки прежде всего есть эсхатология суда. Это один из эсхатологических аспектов, но должен быть другой. Совершенно иное отношение к Апокалипсису Н. Федорова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: