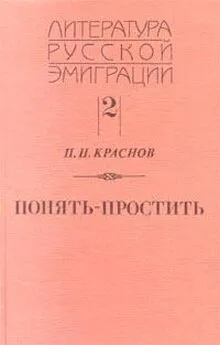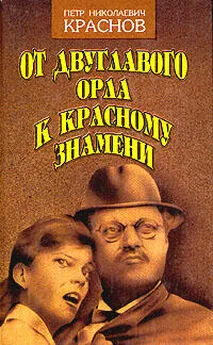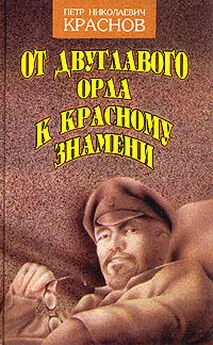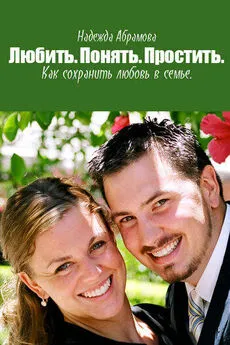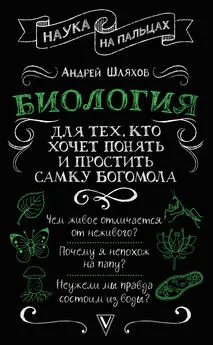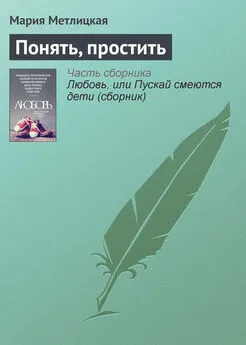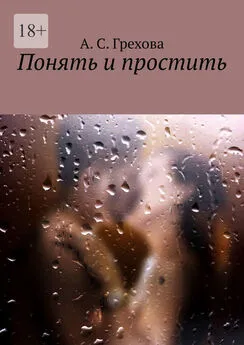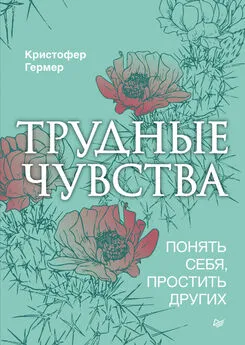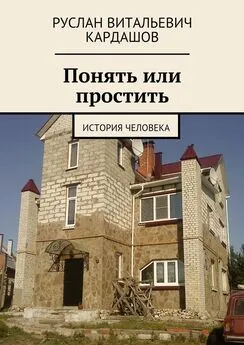Петр Краснов - Понять - простить
- Название:Понять - простить
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НПК Интелвак,
- Год:2000
- Город:М.:
- ISBN:5-93264-013-8, 5-93264-015-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Краснов - Понять - простить краткое содержание
Роман Петра Николаевича Краснова (1869–1947), генерала, прозаика, публициста, представителя первой русской эмиграции, `Понять — простить…` рассказывает о судьбе русского офицера Федора Михайловича Кускова, любящего родину, ненавидящего большевиков и все же вынужденного им служить. По-разному, но всегда драматично, складывается жизнь и членов его семейства, которых российская катастрофа разбросала по всему миру. Краснов дает свою оценку происходящим в России событиям, объясняющую поступки героя. В книгу также включены отзывы эмигрантской печати о творчестве писателя
Понять - простить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что случилось? Или отвернул Свое лицо Господь Бог от белых, или сатанистам-большевикам кровью жертв удалось умилостивить дьявола и он наслал искушение добровольцам, но помнит Федор Михайлович, как вдруг в пелене дождя, вместо стойких зеленых английских шинелей и черных корниловских погон они увидали жидкую лаву конницы, медленно отступавшую от них. А когда в тумане яснеющего дня заняли Ворожбу, он получил приказание идти с дивизией в Петербург… Советское командование гордо заявляло, что оно расправилось с белогвардейскими бандами Деникина и близок час, когда красный Харьков будет занят красноармейцами и советская власть жестоко рассчитается со всеми предателями, генеральскими и буржуазными лакеями, помещиками, офицерами, попами и их казацко-кулацкими бандами… Что же случилось там, где были его Светик, Игрунька и Олег? Почему они, его сыновья, не захватили его, старого дурака, и не вывели на позор всем? Им он рассказал бы все, как рассказал Наташе, и пусть поставили бы его к стенке и вывели бы в расход за его невольное служение сатане.
Он сказал бы им, что, правда, с ними, его детьми, правда с крестом животворящим, а не с каббалистической звездой.
Почему же они тогда повернули и стали отступать? Ему писали с фронта его товарищи, красные генштабисты, что деникинские белогвардейцы отступают без достаточного нажима, что у Деникина что-то случилось в тылу, чего они не знают. Что у Деникина совсем мало войска. А вдруг и тут то же самое?
Федор Михайлович остановился и повернулся лицом к Петербургу. Прислушался к грохоту пушек броневых поездов.
Это с "Товарища Троцкого", из пушки Канэ… На Варшавском пути… Это на Царской ветке… И далеко, как будто у Лигова, на Балтийской дороге, тоже стреляет броневой поезд. И ни одного выстрела со стороны добровольцев генерала Юденича…
Похоже это пустынное, грязное, печальное шоссе на тыловой путь армии, одержавшей победу?
Федор Михайлович вспомнил, как бывало, когда он побеждал со своими лихими туркестанцами на германском фронте за Вислой, на реках Бзуре и Ниде. По тыловым дорогам ни пройти, ни проехать от непрерывного движения обозов и людей. Тогда на победный фронт длинными вереницами тянулись дымящиеся походные кухни, и пахло от них щами и вареным мясом. С треском колес, издали напоминающим пулеметную стрельбу, ехали патронные двуколки, ротные повозки с хлебом, пустые санитарки. Оттуда тянулись транспорты раненых, шли толпы понурых, ошалевших пленных, везли телеги, доверху груженные небрежно наваленными ружьями.
На этом шоссе — пусто. Далеко впереди Федора Михайловича, у белых столбов подъема возле деревни Хабоне, маячила, ковыляя, английская шинель. От Царского Села тянулось несколько телег и маленьких пестрых групп.
По пестроте их Федор Михайлович определил, что это беженцы из Царского. Это стремление уйти назад, а не дожидаться, когда добровольцы Юденича пройдут вперед, было показательно.
На склоне зеленой выемки шоссе, привалившись к траве, лежал, отдыхая, человек. На затылке — английский зеленый картуз с английской кокардой, на плечах — желтая английская шинель без погон, небрежно окрученная пустым патронташем. Одна нога в башмаке и обмотке, другая нога забинтована почерневшей от грязи и крови тряпкой. Доброволец не шелохнулся, когда мимо него проходил Федор Михайлович и не поднял на него бледного, изможденного голодом лица. Разминулись молча.
"Это мой враг, — подумал Федор Михайлович. — Сегодня утром я направлял своих стрелков против него… Иду мимо… Ничего не спрошу… И он не спросит… Нам обоим стыдно…
Да что же это такое?
Тут нет упоения, счастья победы. Тут нет той благородной ласки и ухаживания за побежденными и пленными. Тут — бьют лежачего, уничтожают в страшной ненависти друг друга".
И вспомнил, как по приказу политического комиссара отводили за квартиробивак сотни пленных юношей-белогвардейцев, как им давали в руки лопаты и заставляли рыть канавы — могилы для себя. В холодных сумерках трещал пулемет, валились люди, и их засыпали землей, торопясь от них отделаться. Так, может быть, расстреляли где-нибудь и его Светика, Игруньку — любимца Наташи, Олега. Поразительно ясно стало: это не война. Это нечто в миллионы миллионов раз худшее, чем самая ужасная война.
II
Поднявшись на гряду холмов, Федор Михайлович остановился. Впереди были сады и постройки Мозина. В зеленых берегах текла река Ижора. Гатчина тонула в кудрявых желтых березах и темных елях и соснах громадных лесных пространств Зверинца, Орловской рощи и Пудостьских лесов. Блестящие серебряные купола ее собора веселыми точками стояли над морем лесов. Горизонт был широк. Вправо до Кипени и Ропши, влево до Антропшинских холмов все было покрыто лесными островами, кустарником и прихотливыми изгибами то скрывающейся, то появляющейся реки, блещущей под лучами яркого послеполуденного солнца. В пестрой одежде осенних цветов было неожиданно весело, нарядно и красиво, точно Федор Михайлович попал в иное царство, где не так чувствуется печаль Ингерманландских болот.
Стало легче на душе. Присел отдохнуть на большом придорожном камне с белым кругом в красном обводе и с черной цифрой. Снизу, где прямой белесой стрелой уходило шоссе, упиравшееся в деревню Перелесино, настойчиво тарахтела телега.
Крестьянская лошадь, мужик-царскосел, с ним рядом, спиной к лошади, в черной мягкой шляпе и черном штатском пальто — стройный господин. На заднем месте, на жердях, покрытых пестрым лоскутным одеялом, между корзин и чемоданов — красивая дама. С ней девушка в летней шляпе с лентами и широкими полями.
Федор Михайлович вгляделся… Знакомые… но кто, припомнить не мог… Дамы всматривались в него. Старшая нагнулась к сидевшему рядом с возницей, сказала ему что-то. Он внимательно посмотрел на Федора Михайловича, приказал остановить телегу и приятным барским баритоном окликнул:
— Федор Михайлович!
И Федор Михайлович сейчас же узнал всю семью. Это были Декановы, богатые екатеринославские помещики, владельцы нескольких домов в Петербурге. Сам Деканов служил когда-то в гвардии, был в Академии вместе с Кусковым, по болезни оставил ее, вышел в отставку, уехал в имение и занимался в деревне тонкорунным овцеводством, а в Петербурге коллекционированием и созданием библиотеки и картинной галереи. Федор Михайлович бывал иногда у Деканова, а сын его, Игрунька, был в кавалерийском училище вместе с сыном Деканова — Димой.
Федор Михайлович подошел к жене Деканова — Екатерине Петровне.
— Господи! Какое счастье!.. Ушли от них! Екатерина Петровна протянула маленькую, породистую, изящную руку для поцелуя.
— Прямо такое ощущение… Истинно, как в Светло-Христово Воскресение. Точно Христос воскрес.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: