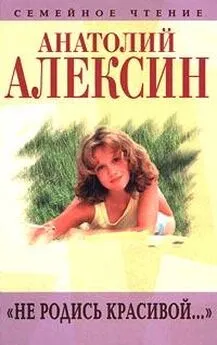Анатолий Гребнев - Записки последнего сценариста
- Название:Записки последнего сценариста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Гребнев - Записки последнего сценариста краткое содержание
Записки последнего сценариста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А на съезде в тот день, 13-го мая, все пошло своим чередом.
Почему люди выступают? Что за такая сила выталкивает человека на трибуну в нетерпенье сказать что-то именно сейчас и всем? Я не говорю о политических митингах, с этим как раз все ясно. Но наши профессиональные сборища - съезды или еще пленумы, как они у нас называются, секретариаты, симпозиумы и т. п.- почему и здесь столько ораторов, что им всем нужно? Какой прок от их выступлений?
На собраниях, которые я помню и где, случалось, тоже выступал (о чем всегда почему-то потом жалел, но - потом, постфактум) не вырабатывалось никаких реальных программ и решений, которые затем проводились бы в жизнь, и все это знали - и тем не менее "пленумы" собирали обычно полные залы, и помнится, как в зависимости от того, "кто выступает", происходил отток из зала в фойе или, наоборот, из фойе в зал... У нас нет ни общественной, ни уличной жизни, жаловался еще Чехов, и это верно, увы, до сих пор - и сейчас даже больше, чем раньше. Пленумы, вслед за которыми ничего не менялось, были своего рода отдушиной, возможностью и повидать сразу всех, и что-то услышать с трибуны - чаще всего то, что и без того уже знали все, но каждый раз в новом ораторском исполнении, с подтекстами, которые так любил зал, а то и с отвагой и риском, приносившими оратору особенный успех: "хорошо сказал!"
Это было чем-то похоже на состязание акынов, словесный турнир, где каждый изощрялся в искусстве устной речи и где, конечно же, ценился остроумный намек, афоризм, эвфемизм, то есть уменье назвать что-то другими словами, в пику начальству, разумеется.
Начальство же относилось к словам ревниво. Меня это всегда удивляло: в стране победившего материализма - такое вниманье к звуку, к словам! Кто что сказал значило подчас больше, чем кто что сделал. Сказал!.. Памятные мне громкие скандалы послесталинского времени, конца 50-х - начала 60-х, связаны, как ни странно, с двумя речами - Алексея Арбузова на каком-то писательском пленуме и Михаила Ромма в ВТО. Оба текста у меня сохранились, тогда они ходили в списках, сейчас даже трудно понять, что уж там такого крамольного. Арбузов построил свою речь на репризе: "Служенье муз не терпит суеты", декларируя независимость художника от сиюминутной "злобы дня". Михаил Ильич позволил себе кое-что покруче: замахнулся на писателя Кочетова - и как же его потом таскали. В книжке Ромма есть даже его "объяснительная" по этому поводу в ЦК, грустно сейчас читать.
Уж не знаю теперь, кто от кого - мы ли от них, они ли от нас заразились этой почти мистической верой в силу слов.
Так зачем же все-таки человек выступает? Что движет им в эти минуты? Задавал этот вопрос и себе - после того, как, уже давши зарок не тратить понапрасну слова и нервы, все же зачем-то тянул руку вверх и шел к трибуне. Тщеславие? Может быть, и оно, куда денешься. Предвкушение приятных минут, когда стоишь в фойе, и к тебе подходят, с пожатьем руки или без: "Молодец, хорошо сказал! Надо б еще добавить то-то и то-то"? Ну, может и так. Неосознанно. Но прежде всего, конечно, вот эта идиотская, неистребимая вера в силу сказанного, поскольку все же, как известно, вначале было слово! Желанье немедленно возразить кому-то, сказавшему что-то не так, ответить, дополнить, поругаться наконец, сказать, сказать!
Зачем - в тот момент не думаешь.
Все описанное относится, как уже понял читатель, к времени прошедшему. Нынче охотников выступать поубавилось, интерес к пленумам заглох: полупустые залы, не то, что прежде. И кто что сказал - мало кого волнует. Сказал - и сказал. Слова подешевели.
И не значит ли это, что мы приходим к нормальной жизни.
Так-то оно так. Конечно. И все-таки жаль. В той, ненормальной, положа руку на сердце, были свои волнующие моменты. Словом, есть что вспомнить.
Речи на Пятом съезде произносились хорошие, то есть выразительные, со всем тем, что нравится аудитории и отвечает ее ожиданиям. Особенный успех имел Ролан Быков. Это было в первое же утро, и он, можно сказать, задал тон. Говорил хорошо, крупно, какими-то весомыми, внушительными абзацами, под аплодисменты. Ролан - прирожденный оратор и, конечно, великий актер. Сейчас, перечитывая его речь (стенографический отчет издан в свое время отдельной книжкой), я не нахожу в ней ничего уж такого особенного, чему следовало так часто и громко рукоплескать. А помню, сам отбивал ладони. "Тут говорили о том, что у нас нет многих прав. Но у нас есть права, данные нам Октябрьской революцией и Советской Конституцией. Мы - хозяева в нашей стране, мы - хозяева в кинематографе!" - отчеканивал Ролан. И - "бурные аплодисменты", как гласит ремарка.
Нет, тут, конечно, был свой подтекст. Не слуги, а хозяева, и извольте с этим считаться. Хозяева здесь мы, а не кто-то другой. Мы!
Но дело, как я теперь понимаю, не только в смысле самих слов, а и в том, как они произносились, какой несли заряд, азарт, энергетику. И в этом Ролану нет равных.
С этой речи, с этих бурных аплодисментов, сопровождавших каждый ее пассаж, и началось, собственно говоря, то, что стало Пятым съездом.
С этого момента зал чутко реагировал на все, что говорили с трибуны. Тот интерес, всегда немножко ленивый и праздный, сродни любопытству, что сопровождал подобные собрания, переходил в какое-то другое качество, как если бы завзятый шутник и острослов к удивлению всех вдруг заговорил серьезно. Зал отзывался на каждое слово, бурно приветствуя все то, что нравится, и столь же страстно "захлопывая" ораторов, когда говорили "не то" или не нравились сами по себе. Бедного Эмиля Лотяну так и просто согнали с трибуны. Не дали говорить Наумову. Что он такого сказал? Лотяну был несколько высокопарен, он поэт, пишет стихи. Не понравилось. А Наумов Владимир говорил, казалось, "по делу". Но вот что: "Молодые люди должны понять, что искусство кино родилось не с их появлением на свет". Или: "...эти молодые критики, которые сейчас много разговаривают (аплодисменты), а мы посмотрим, какой вклад они внесут в наш кинематограф". Аплодисменты в данном случае означают: хватит, кончай! В конце речи, после очередного, вполне бесспорного, кстати сказать, рассуждения - ремарка: "Аплодисменты, шум, свист в зале" - и слова оратора: "Свистеть в этом зале как-то неуместно. Я скажу несколько слов в заключение..." Реплика председательствующего: "Прошу тишины, товарищи!"
Интересно, что выступающий вслед за Наумовым Ежи Кавалерович, представленный как почетный председатель Союза кинематографистов Польши, начинает словами: "Я еще в Варшаве подготовил свое выступление, но под влиянием атмосферы, царящей в этом зале, под влиянием его климата я решил, что читать текст заранее подготовленного выступления не буду".
Это он правильно сделал!
Дальше захлопывали Филиппа Ермаша. В стенографическом отчете эти "аплодисменты" почему-то опущены - может, потому, что были особенно неприличны и вызывающи. Мне рассказывали люди, близкие к Ермашу, что именно в этот момент, сходя с трибуны, наш министр и принял для себя решение о добровольной отставке. Что там ни говорите, мужское решение; оно делает ему честь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: