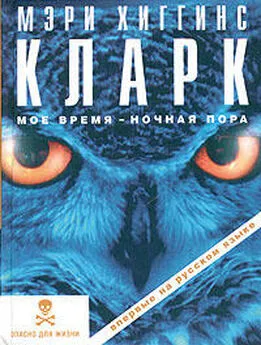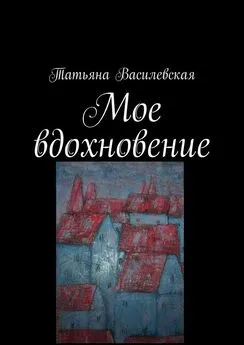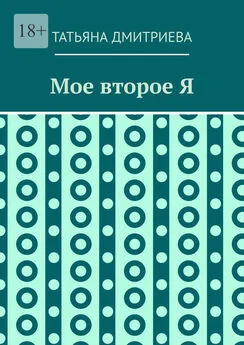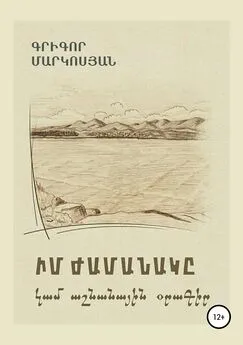Татьяна Янушевич - Мое время
- Название:Мое время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Янушевич - Мое время краткое содержание
Мое время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Победила тогда всех Полина.
Она так заглядывала в злые глаза наши!:
- Я, конечно, ничего не понимаю, и ты, наверное, прав во всем, но интонации не те, я просто знаю, - так нельзя.
Кузьма смеялся:
- Я сказал!
Павел Юрьевич размахивал руками, опрокидывая пепельницы и стаканы, кричал:
- Вот это уровень! Грандиозно, старик! Какая женщина!
И просил у Кузьмы разрешения поцеловать Полину.
То что Павел отсидел семнадцать лет, он и сам все время повторял:
- Я сам отсидел семнадцать лет! - кричал он, как последний довод, если кто-то не хотел ничего понимать и слышать.
Это какое-то его "магическое число" - 17.
Это "сам", - он будто себя отдавал на заклание.
- Я сам с 17-го года! - орал он, когда якобы-понима-ние оборачивалось однозначностью и злобой.
У них не получился "роман" с Александром Исаичем. Павел очень ждал этой встречи. Готовился к знакомству. Встретились они в Рязани, куда Гольдштейн ездил собирать выставку Есенина, а Солженицын там жил. Павел вернулся разочарованный и болезненно уязвленный:
- Журфикс какой-то! Он ничего не понял, Полина! Он ничего не понял! Я сам 17 лет отсидел!
Павел всегда кричал, когда сильно нервничал. Еще это словечко "журфикс", как клеймо на "величайшее ничто".
- После лагеря я узнал, что один мой надзиратель живет в Подмосковье, старик и тяжело болен. Я поехал к нему и встал перед ним на колени. В той страшной мясорубке, в какую каждый из нас попал не по своей воле, он оставался человеком. Ему было труднее, не было героики мученичества, Павел иногда переходил на тишайшие ноты:
- Полина, я встал перед ним на колени. Вот так.
И Павел встал перед нами на колени посреди комнаты.
Показалось, - стены разошлись:
он стоял перед всем миром, за все грехи человеческие,
перед Богом.
Выставку Маяковского Гольдштейн вынашивал, я думаю, он готовил ее как подарок, Кузьме, и себе, и Злотникову, и нам всем.
Не успел. Кузьма умер.
Нас он пригласил, "своих", но сразу "обезопасился", чтобы не путались под ногами:
- На вернисаже должны быть: ...., ..., ...,
Имяреки...
Откуда это? - Он рассказывал: "Лиля Юрьевна Брик сказала: "Нет, я все-таки его не понимала...", то есть Маяковского. И еще: "Все равно я была и буду Беатриче советской поэзии"...
Кажется, он ждал, что она придет...
На входе в ЦДЛ, где мы толклись в толпе, Гольдштейн прошел, "не узнавая", но все же сунул нам пачку пригласительных билетов.
И вот что оказалось.
Народ поболтался с полчаса у витрин с уникальными изданиями начала века.., около фотографий Родченко...
Еще там был портрет работы Злотникова. Но то ли его не так повесили, то ли портрет не такой..., - они же умели в смерть рассориться, в общем Юры не было на выставке...
... Народ поболтался и схлынул весь в актовый зал на праздничный вечер в канун октября. Служительница нам маячит, - скорее, дескать, давайте, закрываю двери, сейчас Магомаев петь будет...
- Мы к Маяковскому пришли...
И осталась нас куцая стайка, своих..,
да Павел - один на один с Поэтом посреди творения рук своих и вдохновенья, в опустевшем зале...
заметил нас в уголку...
Сам проводил по выставке.
Когда уходили, в вестибюле с Павлом столкнулся Некто с львиной седой головой, сильно спешил.
- К Владим Владимычу?.., - Гольдштейн подался весь навстречу... Он бы нас тут же у вешалки бросил...
- ?.. Вам не интересно?
- Да вот, на концерт... надо, знаете..,
но как-то и шмыгнуть мимо не сумел.
Они разговаривали, а мы наблюдали.
Гольдштейн стал перед лестницей, вдруг странно спокойный, а тот заносчиво вспрыгивает на высоких каблуках выше, выше по ступенькам, не лев уже, а гривастый попугай в голубом надутом пиджаке...
и мы почти сами догадались - Семен Кирсанов.
Павел говорил о музее Маяковского, нужно хлопотать, добиваться, будто бы уже разрешают в Гендриковом переулке.
- Зачем на Гендриковом? - Кирсанов хохлился, вспрыгивал по нотам выше, выше:
- Что там интересного! Подумаешь, нашли записку в заднице да сотню презервативов! Надо там, где мы все бывали, приходили бы, читали свои стихи.
Он так и не сумел взглянуть на Гольдштейна сверху вниз, хотя Павел стоял удивительно смиренно.
И уж только потом раскричался на весь троллейбус, когда ехали к нему:
- Какой мудак! ...!
Мы хватаем Павла за руки, "за одежду", он шепотом извиняется и снова орет:
- Он же был знаком с Маяковским! Он же из последних! Я всегда относился к нему с почтением. Может это маразм?.. Нет каков...! ...!
А уже если Павел проклинал! - Небеса разверзались. Его гнев был неподделен и страшен, он повергал нас в трепет и прах. Но в напускной преувеличенности крика, кроме взрывного импульса проглядывала поучительность нам - невиновным и будто бы непричастным, чтобы участвовали, да и жаль ему было старого Кирсанова, и чтобы вовсе уж его остановили, он "подпускал уголовника", то есть ругался, как бывший зека, и тут можно было уже причитать:
- Павел Юрич, ну Павел Юрич...
Дома Павел нам рассказал, как пытались они получить разрешение на создание музея еще в первую годовщину смерти Маяковского.
У них была, как принято, коммуна во главе с сыном Луначарского, там были еще поэт Смеляков и легендарная Любка Фегельман. Они добились приема у министра культуры.
И Крупская зашла в кабинет и села рядом с Павлом. Он сбоку заглядывал в ее очки и думал, - что же, действительно, можно увидеть через такие очки. Потом в коридоре Любка Фегельман наскакивала:
- Надежда Константиновна, вы должны нам помочь! Вы же понимаете!..
- Я ничего не могу, ребята. Я совсем ничего не могу.
И они, отражаясь в ее слепых очках, как-то сразу поняли, что ничего больше не будет...
Павел Юрьевич замечательно рассказывал. Это бывали суточные монологи. Насыщенные знанием и информацией, эмоциями и неожиданными суждениями.
На отмели памяти своей не так уж много сумела я найти. Кое-что, правда, теперь можно прочитать и восстановить по архивам, когда станет доступно. Но Гольдштейн как бы задал нам ракурс мышления.
Иной раз это была всего лишь фотография из его коллекции. Например, Платонова. Человек сидит в ковровом раскладном кресле, плоский, безжизненный, словно засушенный между страниц горький лист...
Да, рассказ о Максиме Горьком занял почти весь день. Мы тогда уже были брезгливы к буревещателям. А Ходасевича не читали, или Берберову. И вообще, - жизнь сложнее, старики, и революции денег стоют...
"Охранная грамота" Пастернака - впервые от Павла:
- "Разве сторож я брату моему?" - гремел Гольдштейн, и мы всю ночь разбирались в сложных взаимоотношениях Пастернака и Маяковского.
......;
Когда началась война в Израиле, Павел решил уехать. Он сделался вдруг очень религиозным, - "Мир дольний, Мир горний..," или мы просто не замечали этого раньше? То есть всерьез, а не литературно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: