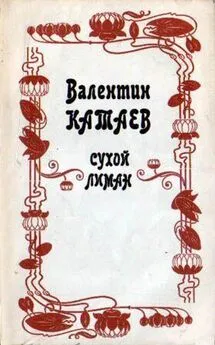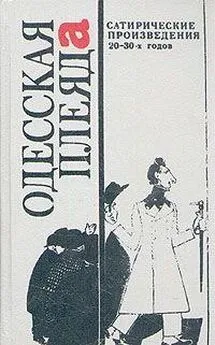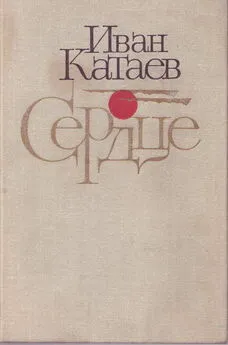И Катаев - Сердце
Тут можно читать онлайн И Катаев - Сердце - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Русская классическая проза.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Сердце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Катаев - Сердце краткое содержание
Сердце - описание и краткое содержание, автор И Катаев, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Сердце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Сердце - читать книгу онлайн бесплатно, автор И Катаев
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
.." - Как, товарищи, больше никто не хочет? На заключительное слово ты, Аносов, надеюсь, не претендуешь? Я его скажу за тебя, так как мне надо сейчас бежать в райсовет. Для нас с вами уже давно ясно, товарищи, что "Красный табачник" в обслуживании населения нам не помощь, а помеха. "Табачник" - это детище прежнего, глубоко ошибочного курса на мелкие, почти семейные кооперативы, он порождение цеховщины и сепаратизма. А мы, после слияния с кооперативом имени Смирнова стали в три раза крупнее "Табачника", и полугодичный опыт работы показал, что укрупнение - единственный путь к исцелению проторговавшейся и проворовавшейся кооперации нашего района. Нам очень тяжело работать, потому что мы пришли сюда на развалины трех организаций, которые потеряли всякое доверие у рабочих и в руководящих органах. И все-таки мы кое-как вылезаем. То, что говорил товарищ Кулябин насчет убыточности столовых "Красного табачника", так это пока общая беда общественного питания, и товарищ Брух правильно ответил, что тут нельзя подходить с одной коммерческой меркой. Нас душит недостаток собственных средств, мы дышим толькоблагодаря кредитным операциям, но как раз слияние с "Табачником" и рост членской массы позволят нам провести усиленную паевую кампанию. Должен вас осведомить, что президиум правления уже возбудил ходатайство перед губсоюзом о слиянии, нас поддерживают райком и райсовет, и надо думать, что вопрос разрешится благоприятно. Яростная оборона табачников объясняется обычным в таких случаях узким патриотизмом, желанием иметь свою вывеску и марку. Вряд ли губсоюз захочет с этим считаться. Одним словом, "Табачник" должен быть присоединен, и тогда к девятой годовщине, как уже давно намечено, мы проведем торжественное открытие нашего объединенного рабочего районного кооператива. Окрестим его как-нибудь погромче, а одновременно откроем новые магазины, хлебозавод, три столовых, уголки матери и ребенка и все такое. Времени осталось мало, товарищи, меньше двух месяцев, и все это нужно гнать вовсю. Если хоть кто-нибудь из вас опоздает по своей линии, то испортит всю музыку. Что касается практических предложений товарища Аносова, то они вполне продуманы, и я советую их принять полностью. Возражений нет? Ну, я бегу. Аносов, ты попредседательствуй, а я через полчасика вернусь. Лечу по коридору. Передо мной вырастает чья-то длинная фигура. Очень бледное лицо, адвокатская бородка клинышком, небритые щеки. - Шура... Александр... Михайлыч, - говорит он с запинкой и протягивает руку. Что-то страшно знакомое начинает светиться в серых, запавших глазах. - Что-то не узнаю... Не припомню... - И немудрено, - усмехается он, - восемь лет не видались. Сергей Толоконцев. Честь имею впервые представиться. Впервые - потому, что у гимназистов представляться было как-то не принято. Забытая, но постарому привычная радость толкает меня в сердце. Я бросаюсь к нему... Хотя... Нет. - Откуда же... так неожиданно? - Ниоткуда. Уже три года тут болтаюсь. Но только наднях узнал, что ты тоже здесь и на таком, так сказать... посту. Вот и пришел. Около часу сижу, жду, ибо услужающие твои в кабинет меня не пропустили, говорят - заседание. - Действительно, было заседание. Да и сейчас я очень тороплюсь. - Ах, торопишься... - Давайте сядем, что ли. Мы садимся на диванчик. Мимо проходят взад и вперед инструктора, завмаги, посетители, удивленно оборачиваются на меня, здороваются. Сергей оглядывает их с головы до ног. Очень неловко сидеть так, боком друг к другу. - Ничего себе, солидное у вас заведение, - говорит он, растягивая слова. - Это что же, все служащие твои? - И служащие, и просто так, по делу... Вы чем же сейчас занимаетесь? - Занимаюсь-то? Щекотливый вопрос. Месяца три ничем не занимаюсь. Безработный и, что называется, свободный художник. А раньше был агентом по распространению каких-то свиноводческих брошюр. Еще раньше - сторожем на Центральном рынке. И так далее. Вообще привилегией на труд в сей стране не пользуюсь. Юридические же мои таланты, по условиям века, пока зарыты в землю. - А где... Софья Николаевна? Попрежнему играет? Что-то он все усмехается, и как-то криво, одной щекой. - Сестра живет со мной. Но не играет уже давно. Наигралась. У нее, видишь ли, голос пропал. - Как пропал? Ведь она же не оперная актриса. - А вот так и пропал. Шепотком говорит. Это еще с девятнадцатого, после одной тогдашней экспедиции. Ездила зимой за картошкой, где-то на буферах двое суток просидела, ну, и вернулась... и без картошки и без голоса... Впрочем, это и не важно... - Почему-же не важно? Сергей повертывается и смотрит на меня в упор. - А потому что все равно ломаться на сцене перед этой новой публикой... - он вдруг осекается и замолкает. Потом продолжает спокойно, уже не глядя на меня: Отец, если это тебя интересует, умер в двадцать третьем году. Из-за этого мы и вернулись с юга - Соня и я. Мать вызвала. На юг же я увез сестру еще в двадцать первом, когда меня выпустили. Я ведь, ты, кажется, знаешь, сидел с самого Июля. Отец тогда не поехал, не захотел бросать своей глазной клиники, и мать с ним осталась. Он за это и поплатился, все болел с голодухи. Врачу, исцелися сам... Но он не исцелился, а умер. Теперь мы втроем живем... Вот и весь мой куррикулюм вите. Как видишь, - блистательный. - Вы что же ко мне, по делу какому-нибудь, или так? - А что, разве не весело узреть друга детства? - Сергей отодвигается и смотрит на меня прищурившись. - Странно что-то ты, Шура, со мной разговариваешь... - Я вам сказал, Сергей Николаевич, что мне очень некогда, - меня ждут в одном месте по делу. - Да, да, вам некогда. Это все вполне естественно... Нет, я к вам именно так. Исключительно ради того, чтобы засвидетельствовать почтение особе, облеченной известными полномочиями. Честь имею кланяться! Сергей быстро встает и идет к выходу. Я выжидаю, пока он скроется. Но, сделав несколько шагов, он останавливается, мгновение смотрит в пол. - Ну, ладно, амбицию к чорту. Что за честь, когда нечего есть - гласит арабская пословица. Я вас, Александр Михайлович, задержу еще только одну минуту. Видите ли, я и вообще не решился бы вас, человека, обремененного государственными заботами, беспокоить... Но вынужден к тому крайними обстоятельствами. Я намерен просить у вас какой-нибудь работы в вашем учреждении. Должен вам сказать, что мать моя уже год не встает с постели. Извините за оскорбление эстетических чувств, - зачервивела. Сестра, как я уже имел честь вам доложить, вполне беспомощна. Вследствие моей безработицы материальное положение семейства, мягко выражаясь, довольно шаткое. Продавать нам больше нечего. Разве что... Ну, да это вас, в сущности, не касается. Посмотрите на факт вот с какой стороны. Перед вами человек сравнительно здоровый, с образованием, небестолковый и в некотором роде гражданин страны, хотя бы и опальный. Мне сдается, что и я некоторое право на кусок хлеба имею. А вы, как представитель правящего сословия, в некоторой доле несете обязанность сию потенциальную рабочую силу использовать. Вот я и предлагаю вам свои услуги, причем согласен на любую роль - от заведующего до курьера... Что я могу ответить ему, этому человеку с другой планеты? Я говорю твердо: - В нашем кооперативе сейчас свободных мест нет. - Ах, вот что... мест нет... Должен еще заверить вас, Александр Михайлович, что моя служба была бы совершенно свободна от каких-либо правонарушений. Вы меня все-таки знаете с мальчишеских лет, далее - я, как-никак, ваш бывший товарищ по бывшей партии, каковую вы вряд ли сумели совершенно похоронить в памяти своей. Все это дает мне право надеяться, что в честности моей вы не сомневаетесь. Провороваться, как многие, не проворуюсь. А что касается политических моих воззрений, то это к делу, как будто бы, не относится. Во всяком случае, ваша мануфактура и селедки, сами понимаете, слишком узкий плацдарм для каких-либо агрессивных действий. - В отношении службы, Сергей Николаевич, я ничем вам полезен быть не могу. Ваша мать, насколько я знаю положение вещей, как жена заслуженного врача, имеет право на персональную пенсию. Или, во всяком случае, на социальное обеспечение и больничный уход. Если вы этого еще не добились или если на этом пути у вас будут препятствия, я готов сделать все, что нужно, - написать записку, позвонить и вообще похлопотать. В любое время я на этот счет к вашим услугам. А больше я ничем не могу вам помочь. - Не можете?.. Так, так... За добрые советы - истиннорусское спасибо. - Сергей хватает меня за рукав. Лицо его близко от моего. - Я все так Соньке и передам. Это ведь она мне нашептала, умолила меня - прибегнуть к вашему высокому покровительству. Вы думаете, я бы сам... когда-нибудь... хоть на одну секунду... допустил бы для себя эту возможность? Отправиться к вам на поклон... Легче мне было удавиться! Я соврал, соврал, что наднях только о вас узнал, я два года знаю, где вы и в каких местах комиссарствуете. И если б не сонькино сипенье сходи, да сходи - в голову бы мне не пришло. Это она все распространялась - ах, Шура Журавлев, такое альтруистическое сердце, он тебя любил, он меня любил, не может быть, чтоб отказал... - Я больше не имею возможности вас слушать. Прощайте. Освобождаю рукав, ухожу. Теперь он остается сидеть. Я бегу к остановке трамвая, вскакиваю на ходу и, когда проезжаю мимо нашего подъезда, вижу в окно: Сергей выходит оттуда, останавливается на тротуаре, потом медленно, сутулясь, идет, заворачивает за угол. Во мне запечатлевается старомодное пальто его с протертым бархатным воротничком. Кажется, отцовское. Карман с одного угла оборван и висит собачьим ухом. Жалко мне его или не жалко? Жалко, чорт возьми!.. Эх, дурак, денег ему не предложил... Хотя он и не взял бы. Ну, да, конечно, - оскорбился бы так, что драться бы полез, знаю я Толоконцевых... Что же теперь делать? Или ничего не надо?.. А Соня?.. Пожалуй, вот что: заодно поговорю с Палкиным. Они ведь в нашем районе. Может, что-нибудь и устроится. III Во дворе, в темноте пронзительно кричит какой-то мальчишка, подражая громкоговорителю: "Алло, алло, алло! Слушайте, слушайте, слушайте! Говорит Большой Коминтерн на волне одна тысяча четыреста пятьдесят метров. Алло, алло, алло!" - Прокричит и опять: "Слушайте, слушайте, слушайте!.." Мешает. Я тянусь с кушетки к окну захлопнуть. Вижу кусочек атласного, не темного неба. Крупные, спокойные звезды. Золотой купол церкви слабо светится - не то от звезд, не то от месяца, но месяц за домами... Почему-то этот светящийся купол в вечернем небе всегда рождает во мне весеннее, счастливое беспокойство. Кажется, потому, что в первый раз я увидел его таким в начале весны, в марте, когда однажды ночью вышел на хрусткий, подтаявший двор колоть дрова. Я посмотрел на него тогда и подумал: в последний раз колю дрова, весна, а жизнь еще неведома впереди и бездонна, как небо. И сейчас такое же шепчет во мне, а ведь странно - осень, и мне уже скоро тридцать девять. Я хочу закрыть раму, но Юрка говорит: - Папа, погоди закрывать. Вот кончу мести, пыль улетит, тогда закроем. Я подчиняюсь. Палка швабры длиннее Юрки; кажется, что это она таскает его по комнате, а он только держится. Какие у него еще тонкие ноги. В его годы я уже носил длинные брюки и был толстым первоклассником; в гимназических брюках я казался себе почтенным, как дядя Ваня - чиновник архива министерства юстиции. На этих вообще гораздо меньше одежды; они легче; ноги загорелые, в синяках и комариных расчесах. Но красный галстук он носит примерно так же, как я светлую бляху и фуражку со значком - с привычной гордостью. Мне вдруг становится совестно, что он метет, старается, а я лежу. - Ты, что же, Юрка, каждый день подметаешь? - Нет, не каждый. Я люблю, когда больше накопится мусору. Тогда лучше видно, что метешь. Но это надо днем, а сегодня мы с утра на экскурсии в ботанический сад, я вернулся поздно, и все-таки, думаю, дай подмету, а то ведь скоро домоуправление придет. Да, я забыл сказать, управдом перед самым твоим приходом прибегал и велел, чтобы ты никуда не уходил, заседание. - Это я знаю... Вот что я решил: надо, брат, нам дежурства завести, что ли. Один день я мету, другой ты, третий мама. Нехорошо тебя эксплуатировать. - А что же ты думаешь? Вот с пятнадцатого учение начнется, занятия в отряде меня целый день дома не будет. Придется дежурства. Он торжественно везет перед собой большую груду мусору и исчезает в коридоре. Я принимаюсь за чтение, но мальчишка орет попрежнему: "Алло, алло, алло!.." Вот далось ему!.. Юрка возвращается и закрывает окно. - У тебя кружок завтра? - спрашивает он сочувственно. - Не завтра, а в понедельник. Но у меня больше не будет вечеров, чтобы подготовиться. - Ну, читай... Хотя постой, постой... - Он подбегает ко мне и становится коленями на кушетку, пристально смотрит на меня. - Ты что, Юрка? - Что? А вот ты мне скажи: ты обедал сегодня? - Обедал ли? Д-да... Я закусывал... Он трясет меня, схватившись за мой пояс: - Нет, ты мне не заливай, ты обедал - с первым, со вторым, как полагается? Я смеюсь: - Ну, ладно, признаюсь, не обедал. Очень, понимаешь, замотался сегодня и столовочное время пропустил. Но мне есть не очень хочется. Юрка с безнадежным видом садится на кушетку и руками обхватывает колено. - Опять не обедал... Чудак, ведь ты же умрешь, сколько раз я тебе говорил! Это в нем надино. - Ну, не умру, авось еще поживу немного... Хотя вот что: если хочешь, сбегай в магазин, купи чего-нибудь, мы с тобой ужин устроим. Авось, и мама подойдет. Деньги вон там, в пиджаке, в боковом кармане. - Денег не надо. У меня еще остались из обеденных. Я сегодня угощаю. Весело, вприпрыжку он убегает. Сразу наступает хрупкая тишина. Слышно, как тикают часы на руке. Трамваи, проносящиеся под уклон с приглушенным грохотом и неистовым звоном, тихо сотрясают стены. Еще - прорезываются певучие автомобильные гудки. Улица мчится там, воспламененная желаниями людей, и подъезды кино на площадях сияют солнцами Индии. Что-то плохо читается. Потолок надо мной грязно-серый, в углах - Юрке не достать - паутина. Надо бы побелить. Чудно, денег вдвоем получаем столько, что стыдно сказать, а деваются, чорт знает, куда. Просто подумать некогда о таких вещах, как потолок. Или это расхлябанность российская, студенческий нигилизм? Да нет, действительно некогда. И мне, и Наде. Ведь раньше она за всем следила и такие разводила уюты, - не хуже, чем у Бурдовского. А теперь - тысячи детей на руках, десятки потолков в голове, снабжения, ремонты... Где уж тут о своем заботиться. Да еще этот ее пыл прозелитический, - совсем себя заездит... Беда с этими тридцатилетними новообращенными: то, что для нас давно примелькалось, для них - откровение и сплошной восторг. Вот и носятся с лихорадочно горящими глазами и, пожалуй, немного бестолку. Ведь тогда, в двадцать первом, когда впервые профсоюзный билет получила, и то сколько было радости: приобщилась!.. - не гражданка уже, не сама по себе, а товарищ! И теперь уж далеко ушла, уже член бюро ячейки, заведующая детдомами, а все такие же чудесные открытия... Юрка возвращается, начинает готовить ужин. Аккуратными кружечками режет огурцы, помидоры, колбасу, достает уксус. - Где это ты так научился? - В лагерях, - деловито отвечает он, что-то уже жуя. Мы принимаемся есть. Юрка доволен и потому, несмотря на хозяйственную важность, начинает баловаться с вилкой и качаться на стуле. А я уж не знаю, можно мне его остановить или нельзя. Так я редко его вижу и для меня такими скачками он растет, что боюсь сказать невпопад. Иной раз, по рассеянности, скажешь ему что-нибудь, как маленькому, а он посмотрит с недоумением; прямо неловко станет. - Может быть, чай поставить? - спрашивает он, от прекраснодушия готовый сегодня на все. - Нет, не стоит, не успеем, сейчас ведь придут. Однако надо же поддерживать разговор. - Ну, как ты, Жюль Верна прочитал, что я тебе принес? - Еще не дочитал. Да и не хочется. Помоему, ерунда. Я спрашивал в военном музее, может ли быть такая пушка, чтобы до луны. Объясняющий сказал, что это фантазия. Фантазия - значит враки. Не интересно. Вот, Майн-Рида Жилище в пустыне еще ничего. Хотя там какие-то офицеры, но устраивают вроде совхоза, сами все добывают и все у них хорошо растет... Ты мне все-таки приноси еще, может, мне что-нибудь и понравится, - утешает он. Удивительно, как он все-таки мало читает. Он совсем не ведает этой сласти, этого жадного восторга - бросить все, удрать в угол с книжкой и скорчившись, чуть не урча от наслаждения, рывком переворачивать страницы. Я помню: чтобы уложить меня спать, когда уже истекли все сроки и самые последние - "ну еще пять минуточек, только до главы", - матери нужно было силой отнять у меня книжку и запереть к себе в комод. А я, одуревший, отуманенный, только что плывший на лодке вместе с самим Сагайдачным или скитавшийся по безлюдным верескам Шотландии, забывший о том, что завтра опять неприютное темное утро и ледовитые коридоры гимназии, - я бегу к комоду, пытаюсь выцарапать ногтями запертый ящик, чуть не плачу. Ну, а Юрка... Юрка, кажется, читать не очень любит и как-то не читает, а... прорабатывает. Читать же не любит оттого, что не терпит одиночества. Тоже странно: как же так без одиночества, без сладчайшей тоски непричастности, без блужданий по сырому весеннему полю, когда машешь руками и кричишь ветру: "О великая даль, о пронзительный зов твоей флейты!" Или, может быть, это им не понадобится, прибавится много другого, чего у нас не было? Нет, напрасно это: пусть прибавится, но зачем же терять старые богатства и радости? Юрка убирает со стола, носит в кухню тарелки и моет их там, прямо под краном. Кончив дело, он чинно садится возле стола. - Вот, что, папа. Я опять хочу тебе сказать. Помоему, нужно все-таки выставить Чистова из квартиры. Вчера он опять напакостил в коридоре, перед нашей дверью. Когда я его стал ругать, зачем он здесь уборную устраивает, он на меня бросился и кричал, что придушит, как котенка. Я насилу вывернулся. И все говорят, что он самый поганый старичишка и его давно надо выселить. Подать в суд и выселить. Больше терпеть нельзя. - Терпеть и не надо, а надо попробовать еще раз его пристыдить, послать ему бумажку от домоуправления. - Ты, значит, не хочешь выселять? - Не хочу, я тебе это всегда говорил. - Странно очень. Ведь он же буржуй, бывший домовладелец, чего ж ты с ним церемонишься? Это соглашательство называется. - Ну, ты пустяки говоришь. Вопервых, он хоть и бывший домовладелец, но сейчас работает, петрушек выпиливает и этим только и кормится. Затем, никого у него нет, ни родных, ни приятелей, значит деваться ему некуда. Нельзя же человека на улицу выбрасывать. - Прямо чудно тебя слушать! Ты же сам говорил, что к буржуазии не может быть никакой пощады. А теперь сам дрефишь... Ну, как ему растолковать? - Я говорил, что буржуазии нет пощады, когда она вредит революции, государству или даже вообще какой-нибудь группе людей - рабочих или крестьян. Понимаешь? А Чистов никому кроме нас не вредит. Он только на меня злится, да на маму, что мы коммунисты и что мы первые его уплотнили, и что я председатель жилтоварищества. Вот он и безобразничает. Он хочет как-нибудь свой протест заявить, - что вот его, прежнего богача, с поварами и рысаками, заставили жить в убожестве. И больше никак не может протестовать, кроме как перед дверью гадить. Больше ведь он никого не трогает? - Никого. - Ну, вот. А мы - я, ты, мама - не должны губить человека, даже и скверного, только потому, что нам троим от него неловко. Надо попробовать его утихомирить, и я это постараюсь сделать. - Он говорил Агафье Васильевне, дворничихе, что электрические провода перережет, которые к нашей комнате. - Так ведь еще не перерезал. - Агафья Васильевна говорит, - он может дом поджечь. - Не подожжет. Ему самому плохо придется. Юрка молчит, потом говорит решительно: - Ты как хочешь, а я домоуправлению сегодня заявлю, чтобы выселяли. Я тоже жилец, имею право. Я не хочу за буржуем пол подтирать. Если бы в отряде узнали, меня бы задразнили, исключили бы, пожалуй. Суд присудит, и пусть он убирается к чорту со всеми петрушками своими, с иконами и с карточками... - С какими карточками? - У него много карточек, он их иногда на столе расставляет и любуется. А на карточках все голые монашки, с которыми он жил. Он только с монашками жил. И позади каждой карточки полное описание этой монашки, год и число. - Кто это тебе сказал? - Агафья Васильевна при мне рассказывала тете Груше. - Передай Агафье Васильевне, что она дура и напрасно рассказывает при тебе такую чепуху. Хотя я это ей и сам скажу. А заявлять что-нибудь домоуправлению... Стук в дверь. Это домоуправленцы. Здороваются, я приглашаю садиться. Самсонов и Птицын, как всегда, робко передвигаются по комнате, осторожно берут стулья, будто стеклянные. Чудаки! все еще стесняются меня, моей комнаты, хотя в ней беднее, чем у них - у Самсонова - маляра и Птицына - сапожника. Это потому, что для них я все-таки интеллигент, и, следовательно, барин. Потом, им еще нова и страшна общественная работа, обрушившаяся на них после свержения буржуазного домоуправления. Один только Серафим Петрович деловит, чинен и полон сознания своего достоинства. Ему что! - он при всех правлениях - казначей, незаменимый и щепетильный. Строго оглядев нас поверх очков, из-под своей огромной багровой шишки на лбу, он сообщает, что Степанюка не будет, Степанюк опять запил. Значит, можно начинать. Мы обсуждаем вопросы о перемощении двора и ремонте дровяных сараев. Самсонов понемногу расходится. В другой обстановке он, я знаю, словоохотлив, говорит кудряво и с подмигиванием - маляр, маляр и есть; тут его еще пригнетает все-таки государственная важность дел. А у маленького Птицына - у того уж совсем слова не вытянешь; молчит, и лицо виноватое. К тому же я чувствую, что хозяйственное их сегодня мало интересует. Но вот, Серафим Петрович вынимает из своей папки бумажку и протягивает ее мне: - Я полагаю, что можно перейти к текущим делам. Автор этого заявления - из моей квартиры гражданин Брюхоногов, весьма выдержанный инвалид третьей категории. Лица оживляются. Вероятно, об этом они без меня успели наспориться до хрипоты. Я уже вижу в чем дело, улыбаюсь. - Опять об Угрюмовой. Вы со своими союзниками скоро ее совсем заклюете, Серафим Петрович. Вот ополчились все на бедную женщину! Серафим Петрович разводит руками: - Ну, уж и сказанули, Александр Михайлович, - бедная женщина! Да разве это женщина? Это фашист кровожадный, а не женщина. Вы спросите все соседние квартиры, кому она только не насолила. Да вот, читайте об ее новых упражнениях, читайте вслух. Я начинаю читать. Почерк каллиграфический. "Во избежание дальнейших недоразумений и порядка нашего жилтоварищества, я вынужден довести до сведения нижеследующее: "Первое: за последнее время, в особенности июнь-июль-август месяцы, со стороны гражданки Угрюмовой из квартиры 26 наблюдается целый ряд антисанитарных условий по отношению проживающих в нижнем этаже членов товарищества. "а) Трясут подстилки из-под собаки через окно второго этажа, все волосы и пыль летит прямо проживающим в первом этаже, где вдыхается в легкие и попадает в питание. На мое заявление прекратить это безобразие гражданка Угрюмова мне ответила: трясу и буду тресть, ничего ты мне не сделаешь (присутствовал тов. Хрящик). "б) Неоднократно получающие эксцессы с собакой владельца гражданки Угрюмовой, которая приносит большие неудобства и алчно щелкает не только на детей, которых может сделать совершенно уродами, а также нарушает вход в квартиру и взрослым. Примеры: "1) 12 августа собака, выскочив из квартиры, набросилась на детей Пирогова, которые забавлялись в песок. От ужаса дети с криком безумия бросились бежать. Не представляю себе возможности, как они не попали в яму (поглощающую). "2) 13 августа ребенок товарища Хрящик в возрасте 4-5 лет, гуляя на пороге двери, был настолько перепуган выскоком собаки из двери, что за испуг не берусь отвечать". Глаза мои уже прочитали начало следующего абзаца: "А посему, во избежание судебных процессов..." Я хочу произнести эти слова. И вот - опять! - я слышу, как мое сердце на мгновение замедляет ход, потом вырывается из своего мешка и начинает колотиться поспешно, не в лад, как попало. А, чорт! Этого не было с весны. Я думал, что прошло совсем. Но жить уже и в эту минуту нельзя. Оно отскочило от жизни, оно трепыхается только рядом. Я знаю, что делать: нужно лечь на спину, и голова вровень с телом... Я встаю, и все подымаются вместе со мной, не сводя с меня испуганных глаз. Губы Птицына что-то шепчут. Должно быть, я бледен. - Александр Михалыч, что с вами? Серафим Петрович старается поддержать меня за локоть. Ах, они не понимают! - как всегда, мучительное раздражение охватывает меня. Я вырываю руку. Иду к кушетке, откидываю валик, ложусь. Ну, теперь влезай обратно, я жду... Странные люди, чего они суетятся? Распахивают окно, суют стакан с водой... Я отмахиваюсь. Один Юрка спокоен, он знает. Я слежу за ним, осторожно повернув голову. Ага, тише, тише... сейчас влезет. Юрка что-то чертил с линейкой, теперь бросил, смотрит на меня. Нет, опять сорвалось... Что это, как долго в этот раз?.. Не могу больше!.. - Да что, с вами? Александр Михалыч, голубчик? - Птицын чуть не плачет. Я морщусь: нужно же, чтобы не мешали. Тихо говорю: - Юрка, объясни им... Важный и сумрачный, он выступает вперед: - Это у него нервоз. - Невроз, - поправляю я чуть слышно. - Вы не беспокойтесь: ему ничего не больно. Больно будет потом. Сейчас только неловко, будто сердце за что-то задевает. Он мне говорил. И еще страшно, что в эту минуту нельзя жить. Но это сейчас пройдет. Это не обморок. Они смотрят на Юрку с каким-то почтением. Самсонов даже рот разинул. Ну вот, успокаивается, только вздрагивает. Уже можно думать, можно жить. Что вы скажете? Моя система не подведет! Лечь на спину, и больше ничего. Я сам это изобрел зимою. Как будильник, - есть такие, что идут, если только их положить вверх циферблатом. Птицын хочет подсунуть мне под голову подушку. Юрка отнимает. - Не надо, так ему лучше... Вот и совсем улеглось. Бьется ровно, как всегда: раз-два, раз-два... Как это все-таки приятно, когда ровно. Одним этим можно всю жизнь наслаждаться, а мы и не замечаем. Раз-два, раз-два... Но нужно еще полежать, чтобы закрепилось. - Вы, товарищи, читайте дальше, - говорю я, - я отсюда послушаю. Они боязливо переглядываются. - Да нет уж, мы лучше пойдем, Александр Михайлыч. Давайте отложим... - Нет, нет, зачем же откладывать. У меня на этой неделе больше свободных вечеров не будет. Валяйте уж все дела до конца. Снова усаживаются. Серафим Петрович подвигает очки выше, к переносице, откашливается. "А посему, во избежание судебных процессов, - начинает он скрипуче и нажимая на ударения, - рекомендую домоуправлению выдвинуть следующие вопросы: "а) Положить конец антисанитарии по отношению проживающих в нижнем этаже со стороны гражданки Угрюмовой, дабы иметь возможность в целях притока очищенного воздуха открывать форточки и даже рамы. "б) Предложить гражданке Угрюмовой, во избежание дальнейших эксцессов, купить намордник, а также всякий раз (поскольку имеются дети) сопровождать выход собаки или на цепочке или на руках, дабы последняя..." Далеко, в конце коридора хлопнула дверь, я слышу знакомые быстрые шаги. Ближе, ближе. Я знаю, это Надя. Она всегда бегает так, будто за ней гонятся. Дверь позади моей головы распахивается. Я не вижу, но, как всегда, ощущаю ее, счастливое, милое облако. Секунда, и вот уже она около меня, на коленях, берет мою голову в ладони. В глазах, затененных шляпой, тревога: - Что это, Шура? Опять? Опять сердце? Я тороплюсь успокоить: - Уже прошло, пустяки. Наверное, за последнее время переутомился немножко. Пытаюсь улыбнуться: - Нервозные, мы, понимаешь, стали, как кисейные барышни. Надя убирает мне волосы со лба. От нее еще веет холодком улицы и родным, старинным запахом прорезиненного пальто. Домоуправленцам она говорит: - Вот что, товарищи, давайте-ка, отложите свои дела. Ему надо отдохнуть. Я хочу остановить, но Надя машет рукой. Они зачем-то бормочут извинения, поспешно собирают бумаги и на цыпочках выходят. Надя поворачивается ко мне и говорит строго: - Ну-с, завтра же к доктору. - Да, да, обязательно, я и сам думал, что надо... - Вот то-то, что надо. И непременно завтра же, утром, до работы. Хотя я сама с тобой пойду, а то ты всегда, как припадок, собираешься, а потом - авось да как-нибудь. Она кладет шляпу на шкаф и хочет снимать пальто, но какая-то стремительная мысль останавливает ее посреди комнаты: - Да, Шура!.. Ты не можешь себе представить, что у нас сейчас произошло на активе, - говорит она весело, улыбаясь своему воспоминанию. Позабыв про пальто, она подсаживается ко мне на кушетку. - Понимаешь, только начались прения и вдруг является Ребрянский. Во время доклада его не было. Просит слова, выходит, весь багровый и галстук насторону. И начина-ает, и начина-ает!.. Надя рассказывает быстро, глаза у нее блестят. Я держу ее теплую руку в своей. Да, стриженые волосы очень ее молодят. На вид ей сейчас двадцать пять, двадцать шесть, не больше. Только вот легкие морщинки у глаз. Слова ее, быстрые, круглые, веселые, сыплются на меня, как золотое зерно из мешка. Юрка опять что-то вычерчивает, стоя голыми коленками на стуле. Он не слушает, у него свои дела. Ночь. Темнота плавает перед глазами. Какие-то рыжеватые полосы проносятся вкось, книзу и снова взлетают. Я опять его слышу. Это самое мучительное, когда оно слышно. Оно колотится глухо, будто завернутое в вату, мерно ударяется в мягкий матрац. Там идет нестихающая возня; что-то покалывает его, давит, передвигает в сторону. Это еще ничего, можно засыпать. Но только дремота окутает меня и я начну сливаться с темнотой, с безмолвием, - оно вдруг дергается и начинает частить, частить... Потом выравнивается, я радостно вздыхаю, но сон уже исчез. Оно похоже на бойкую, скользкую мышь, его никак не удержишь. Я прикладываю к нему ладонь: вот оно, близко, под тонкой, горячей кожей. Ну, что тебе, места мало? Колотись себе смирно о ребра. Вот так. Раз-два, раз-два. А чтобы тебе было легче, я могу перевернуться на другой бок. Ну вот, хорошо. Тепло, тихо, спокойно. Длинное тело отдыхает, плотно прилегло к простыне; усталость просачивается из него книзу, как дождь в землю. А ведь я все-таки ощущаю себя вот тут, в голове. Холодные ноги, это - не я, живот - не я, сердце - совсем не я, оно - чужое, постороннее, а я только здесь, в голове, съежился. Интересно бы посмотреть на свое лицо изнутри, какое оно ? Все выгнуто в обратную сторону, как форма для барельефа... Кстати, нужно повесить портреты в комнатах правления, бюст какой-нибудь... А то очень голо... Ну, ладно, сплю. Юрка ровно дышит на кушетке. Он всегда спит крепко. И я... Гремят страшные удары, вспыхивает багровый свет. Что это? Смерть? Открываю глаза. Темнота. Сердце мчится бешено, вскачь, вкарьер. Я провожу рукой по лицу. Холодный пот. Это случилось в то же мгновение, как я заснул. Заснул - и грохот и я проснулся. А ведь и верно, что-то грохочет... Близко, во дворе. Тяжело дыша, я приподнимаюсь на локте. Слушаю. Погрохочет и смолкнет, и опять. Осторожно, чтобы не толкнуть Надю, слезаю с кровати. Прижимаюсь носом к холодному, запотевшему окну. Весь двор зеленовато-белый, черные тени, и месяц купается в осиянном небе, как в голубом вине. Кто-то черный согнувшись ходит по двору, и от него грохот. Тихонько отворяю окно, высовываюсь, холодный воздух покалывает мне горло. Так и знал, это Сморчок. Он опять катает свою бочку. Вот он заметил меня, подходит к окну, смотрит, задрав голову. Серебряный свет льется на его всклокоченные волосы, яркая тень от носа пересекает усы и бороду. Он похож на утопленника. Рваный пиджачишко одет на голое тело, и дряблое, сверкающее пузо вываливается за гашник. - Опять ты безобразничаешь, Сморчок, - шиплю я ему, - ты людям спать не даешь. Как тебе не стыдно! Он вытягивается и отдает мне честь: - Вашему высокородию нижайший почет, через пень-колоду, за море-окиян, в белокаменный град. Позавчера родился, нынче женился, помирать не хочу, честь имею представиться. Вашей тетеньке двоюродный плетень и народный комиссар монополии. Что с ним будешь делать? Я говорю жалобно: - Иди спать, Сморчок, брось свою бочку. Я болен и из-за тебя заснуть не могу. Хоть меня пожалей! Он шаркает босой ногой и опять отдает честь: - Так что, ходатайствую о безвозвратной стипендии. Двугривенный на поминовение усопших родителей и раздробление миров. Тюлечки-маргулечки, валеный сапог. Всевозможное вращение. - А шуметь больше не будешь? - Засну, как плотва, до страшного суда. Я достаю из пиджака монету и кидаю ему. Она падает на булыжник, звеня. Сморчок ищет ее, встав на четвереньки, и что-то кричит. Но я поскорее прикрываю раму. Надя спит, повернувшись к стенке. Блестит ее круглое плечо. Надо бы все-таки купить вторую кровать, - думаю я, укладываясь, - а то неудобно.Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать