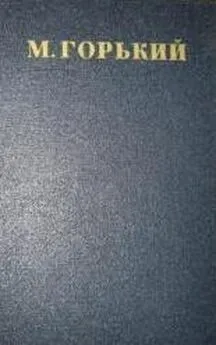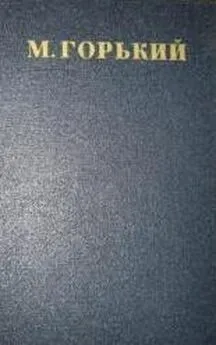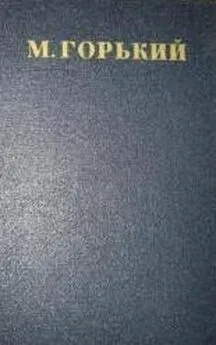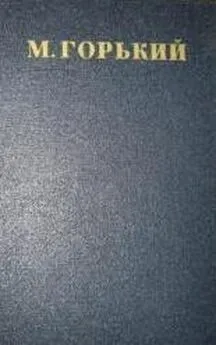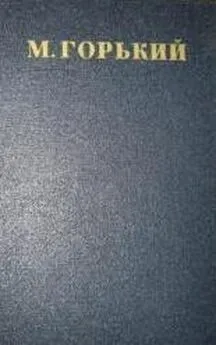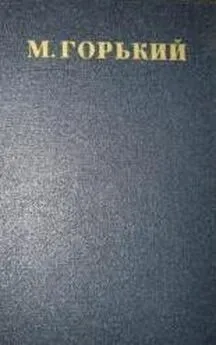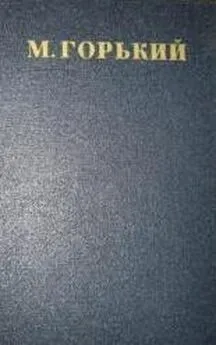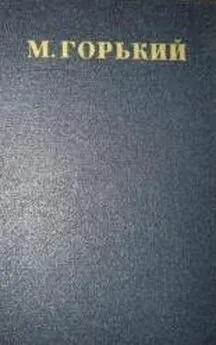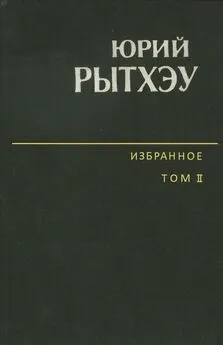Максим Горький - Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912-1923
- Название:Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912-1923
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1949
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горький - Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912-1923 краткое содержание
В четырнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1912–1923 гг. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Хозяин», «М.М. Коцюбинский», «Кража», «Рассказы», «Пожар», «Лев Толстой», «О С.А. Толстой». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большинство из них писатель редактировал при подготовке собрания сочинений в издании «Книга» 1923–1927 годов.
Остальные произведения четырнадцатого тома включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями, эти произведения, опубликованные в периодической печати, М. Горький повторно не редактировал.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912-1923 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:
— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы, как звери…
Усмехнулся:
— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от. этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.
И, снова помолчав, добавил:
— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому, что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.
Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли;
— Какой-то маленький немецкий царек оказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»
«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко, он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».
«Меньшинство нуждается в боге потому, что всё остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».
Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души [12] Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы. (Прим. автора.)
.
— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.
Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня, Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя — иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.
Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:
— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.
Кто-то напомнил о Забелине.
— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает всё, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.
Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.
«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sа fаçоn [13] по-своему (франц.).
». Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил…»
— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза, — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта, Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.
— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средине века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:
…не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет,—
этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет — ох, да-ойт да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплётов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.
— А Беранже? — спросил Сулер.
— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.
Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:
— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет…
Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому всё известно и больше Нечего знать, — человеком решенных вопросов.
Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: