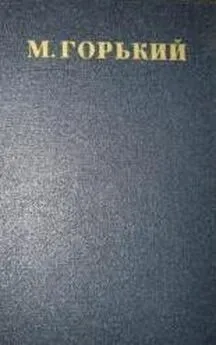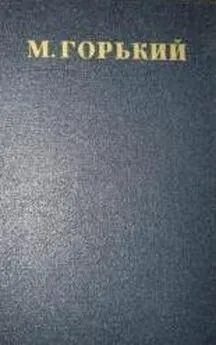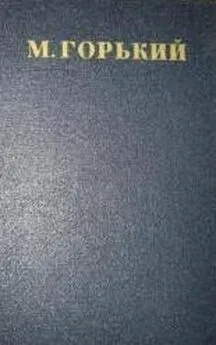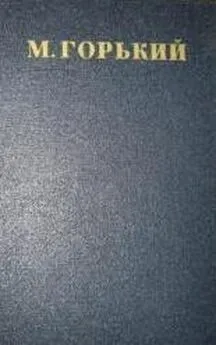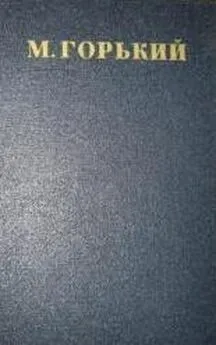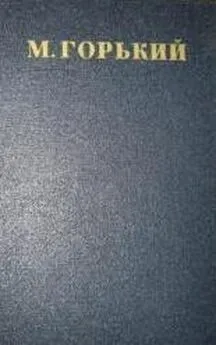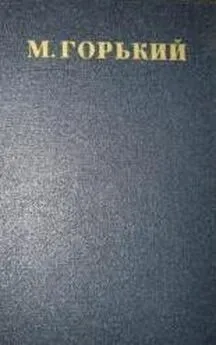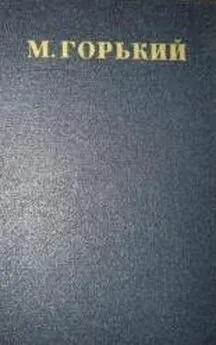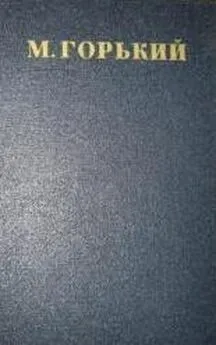Максим Горький - Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936
- Название:Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1949
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горький - Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936 краткое содержание
В семнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1924–1936 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «В.И. Ленин», «Леонид Красин», «Сергей Есенин», «О Гарине-Михайловском», «Н.Ф. Анненский». Некоторые из этих произведений редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов, и при подготовке других изданий в 1930-х годах.
Остальные произведения семнадцатого тема включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения, опубликованные в советской периодической печати в 1925–1936 годах, М. Горький повторно не редактировал.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из этой поездки Вилонов возвратился на Капри уже почти совсем без сил, но ещё более твёрдым ленинцем. Его пришлось отправить в Давос, где он вскоре и умер.
Долго, как видите, берёг я память о нём, всё хотелось написать как-то особенно хорошо. Но очень трудно писать о людях такого типа, да и не привыкло перо русского литератора изображать настоящих героев.
Но вот к пятнадцатилетию работы «Правды» я счёл за лучшее всяких поздравлений рассказать её неутомимым работникам о Человеке, который, на мой взгляд, так хорошо понимал и чувствовал правду ненависти.
Н.Ф. Анненский
В 90 или 91 году, в Н.-Новгороде у адвоката Щеглова, Павел Скворцов, один из первых проповедников Маркса, читал свой доклад на тему об экономическом развитии России. Читал Скворцов невнятно и сердито, простудно кашлял, задыхался дымом папиросы. Слушали его люди новые для меня и крайне интересные: человек пять либеральных адвокатов, И.И. Сведенцов, старый, угрюмый народоволец-беллетрист, много писавший под псевдонимом Иванович; благожелательный барин-революционер А.И. Иванчин-Писарев; Аполлон Карелин, длинноволосый, как поэт Фофанов; Н.Н. Фрелих, красавец, о котором я знал, что он тоже революционер. Было и ещё несколько таких же солидных людей, с громкими именами, с героическим прошлым.
Когда Скворцов кончил читать, на него почти все закричали, но особенно яростно — брат казнённого Степана Ширяева, Пётр, человек бородатый, с лицом алкоголика. Грубо кричал Сведенцов, ему вторил Егор Васильевич Барамзин, тяжело переживавший в то время свой отход от народничества к марксизму. Скворцов огрызался во все стороны, размахивая длинным камышовым мундштуком, но сочувствующих ему в гостиной не было, его не слушали, забивали криками, уже оскорбляли. Сведенцов, сказав что-то очень сильное, проклинающее, парадно отошёл в угол, в облако синего дыма, а навстречу ему из угла поднялся плотный человек, седоватый, с красным лицом и в костюме более небрежном, чем на всех остальных; не то чтоб он был бедно одет, но именно небрежно, как человек, не чувствующий нужды украшать себя извне.
— Я протестую, господа, — сказал он неожиданно молодым голосом; глаза у него тоже были очень молодые, ясные; помню, я подумал: «Вот удивительные глаза!»
Откровенно поддёрнув брюки, что вышло у него вовсе не смешно, он выдвинулся из дыма и горячо, но не сердито, а как-то особенно неоспоримо и внушительно стал говорить об уважении к человеку и свободе человеческой мысли. Мне очень понравилась необыкновенная ясность его речи, умелый подбор простых, но веских слов, они ложились в память, как слова песни.
— Человеческая мысль, стремясь разрешить загадки жизни, имеет право ошибаться, — сказал он между прочим.
Эти слова пришлись мне так по душе, что я впоследствии попросил Николая Фёдоровича написать их на оттиске его статьи «О катедер-социалистах».
Расхаживая «на поисках истины» из квартиры в квартиру «неблагонадёжных» людей, я несколько раз встречал Н.Ф. у Н.И. Дрягина, где собирались воспитанные Анненским известнейшие статистики: Кисляков, Константинов, остроносый Шмит, маленький М.А. Плотников и много других людей.
Каждая встреча с Николаем Фёдоровичем вызывала у меня удивление перед этим человеком и углубляла уважение к нему. Удивляла меня бодрость его духа, его вера и добрые силы жизни, его рыцарское отношение к человеку.
Во время столкновения двух миропонимании, непримиримых по сущности своей, были люди, переживавшие свой личный раскол глубоко и тяжко, но встречалось немало любителей новизны, которые слишком торопливо натягивали европейский костюм марксизма на русский зипун народничества. Не один раз случалось мне наблюдать, с какой удивительной чуткостью, как бережно относился Н.Ф. к первым и с каким безжалостным остроумием обнажал он суетливую поспешность вторых.
В речах своих он был юношески горяч, великолепно владел острым словом, метко, как художник, попадал им в цель; он умел высмеять противника, даже немножко уязвить его, но я не помню случая, когда бы его слово обидно задело человека. Всегда бывало так, что противник вместе с другими искренно смеялся над тем, как Н.Ф., поймав его на противоречиях, ставил в тупик. Помню, возражая Барамзину, он так и начал:
— Рыбу ловят на червей, человеков — на противоречиях.
Он был по-русски красноречив, и особенно подкупало меня блестящее умение, с которым он владел афоризмом, этой характерной особенностью подлинной русской речи. Точно фольклорист, он знал бесчисленное количество пословиц, поговорок и артистически вплетал их в свою яркую речь, однако не перегружая её. Не знаю, это ли называется «талантом оратора», но слушать его было наслаждением. Помню, что по поводу какой-то статьи М.Меньшикова о Льве Толстом или о князе Вяземском, толстовце, он сказал:
— Верблюд, рассказывая о коне, неизбежно изобразит его горбатым.
Два человека были для меня в ту пору «настоящими» — В.Г. Короленко, который всегда знал, что надобно делать, и говорил о трудных делах жизни со спокойствием стоика, и Н.Ф. Анненский, чья духовная бодрость действовала благотворно на меня, переживавшего в ту пору весьма тяжёлые дни. Конечно, эта бодрость заражала всех, кто знал его, но мне она была действительно «лекарством по недугу».
В лице Н.Ф. я видел человека, который счастлив тем, что он живёт, и тем, что умеет наслаждаться делом, которое он делает.
Через десять лет я видел Н.Ф. в Петербурге, на демонстрации 4 марта. Как раз в тот момент, когда казаки и полиция со свирепостью, которая вначале показалась мне наигранной и театральной, — так неестественно внезапна была она, — так вот в минуту, когда пьяное воинство бросилось в толпу демонстрантов, тесно сгрудившуюся на паперти и на крыльях между колонн Казанского собора, я увидел характерную фигуру Николая Фёдоровича.
Он один бежал от монумента Барклая-де-Толли встречу публики, стремительно спасавшейся от избиения, бежал к паперти, где уже сверкали шашки, шлёпали нагайки, мелькал красный флаг и откуда раздавался оглушительный, тысячеустый вой, рёв, стон. Казаки, ловко повёртывая лошадей в людском потоке, гикали, сбивали бежавших с ног, хлестали нагайками по головам. Пешая полиция била шашками плашмя. Полицейские были, кажется, трезвы, а казаки — пьяны, это я знаю совершенно точно, видел, как легко стаскивали их за ноги с лошадей и выбивали палками из сёдел. Николая Фёдоровича я, конечно, тотчас потерял из глаз.
Вечером он пришёл в Дом литераторов с разбитым и опухшим лицом. Битых людей в тот день я видел немало, и хотя это грустно, а надо сказать правду: очень многие из них оценивали синяки и царапины свои несколько высоко, как, примерно, солдаты — георгиевский крест. В этой повышенной оценке чувствовалось нечто смешное и конфузившее, ибо ведь шишка от удара на затылке человека не всегда свидетельство мужества его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: