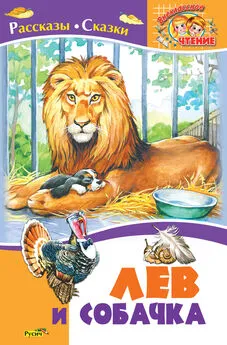Максим Горький - Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917
- Название:Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1949
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горький - Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 краткое содержание
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А моя милая Анюта шепеляво оправдывает меня:
— Он очень добрый, только ему скучно. Барыня гордая, строгая, требует, чтобы всё было аккуратно, а он рассеянный и беззаботный такой…
И густой голос курсистки Мозырь бьёт меня по темени тяжёлыми словами:
— Лицо у него блаженное, но бездарный он, должно быть.
Снова господин Александров:
— Теперь вот они опять, кажется, начинают восхищаться — пролетариат, демократия и прочее. А я думаю: «Очень хорошо, но вы кричали это куда громче четыре года назад тому и разбежались! Как же тут верить?» Не один я так думаю. Очень это мешает, правду говоря…
Я ушёл, находя, что достаточно с меня.
— С той поры родилось во мне надоедное желание убедить этих людей в моей искренности, в живом интересе к ним, к жизни их душ. Должно быть, делал я это очень неумно и неуклюже: через месяц, что ли, Анюта смотрела на меня смущённо недоумевающими глазами, почти с испугом, жена обидно поджимала губы и проходила мимо какими-то особенными, изящно отрицающими шагами, — не без брезгливости, как мне кажется. Я чувствовал себя болваном, понимал, что всё это надобно бросить, и не мог…
— Особенно плохо приходилось мне на наших журфиксах, когда добрые знакомые за чаем и ужином начинали разговаривать о росте самоубийств, эволюции театра, о законе 9 ноября, музыке, стихах, о модных беллетристах и о развитии хулиганства. Одни утверждают: наступил момент всестороннего и общего упадка культуры; другие не менее доказательно говорят прямо противоположное: культура, опустясь сверху, растекается вширь, всасывается почвой. Жена моя утвердительно и благосклонно кивает головой — это у неё выходит очень красиво, но несколько однообразно, ибо всегда благосклонно, всегда утвердительно! Она говорит всему миру одно и то же: «Не надо распускаться!» Женщина английского воспитания. Прочная материя, но не очень греет. А я сидел и думал: «Всё это не то, и не этим мы утешимся, не этим обманем себя! Необходима другая ложь, более обаятельная…»
— Почему ложь? А видите ли, я не уверен, что выживу, вынесу правду, если её мне покажут, — вернее — я уверен, что не помирюсь с правдой, и знаю, что бессилен бороться с нею. Непонятно? Вы вспомните хромого жандарма, его слова о нашем одиночестве в стране — вот вам намёк на правду, только намёк, а сама она необъятно страшнее, как мне кажется… Ибо к одиночеству надобно добавить и разброд между нами и разрыв наш с демократией, враждебный разрыв, хотя и скрываем это мы сами от себя, но — враждебный!..
— Я преувеличиваю? Может быть… Однако скажите: где у нас та идея, что могла бы организовать в непобедимое целое главную силу страны, снова дружественно слить нас с нею, с демократией?
Он торжествующе засмеялся, крепко потёр руки, потом продолжал тише и значительнее:
— Ведь эти, которые ликуют, утверждая, что мы незаметно, но неустанно двигаемся куда-то, ведь лгут же они! Для самоутешения лгут! Мы топчемся на одном месте в печальной пляске разрухи, и, посмотрите-ка, как мы испортили, изломали, растеряли наши оценки! Посмотрите, какие знакомства и дружбы стали возможны, какие речи ныне приемлемы и не возмущают! А пока мы тут растерянно валандаемся, за спиною у нас создаётся нечто, может быть, в корне отрицающее наше несчастное, неуверенное, мятущееся бытие…
— Анюта? Она ушла, и это разумно с её стороны. У меня к ней создалось странное чувство — смесь зависти и обиды. Как это так — для неё, горничной, жизнь цветёт улыбками, а мне скучно? Что-то в этом роде чувствовал я, но значительно сложнее. И мне хотелось, скажу по совести, смутить её наивность: выберу, бывало, книжонку из современных, эдак попессимистичнее, помрачнее, что-нибудь «овеянное злым дыханием безнадёжности», и дам ей — вот, мол, Анюта, прочитайте-ка! А она прочитает, молча положит книжку на стол мне и, когда спросишь: «Ну как, понравилось?» — отвечает скромно и непоколебимо:
— Нет.
— Почему же?
— Так, не нравится.
Только и всего. Разве покраснеет немножко в добавление. Однажды я спросил её, — так себе, шутки ради:
— Вы что, Анюта, думаете обо мне?
И с великим, несомненно искренним удивлением она ответила:
— Я ничего про вас не думаю, что вы, Иван Иванович!
Это «что вы» — характерно, не правда ли? И ведь ясно — она заподозрила меня в том, что я почувствовал отрицательное отношение ко мне. Конечно, это ясно? Да? В день расчёта она зашла ко мне проститься и первая протянула мне руку. На голове у неё была старая женина зелёная шляпа, а на руках перчатки жены.
— Почему вы уходите? — спросил я.
— Так уж, надобно, — ответила она, усмехаясь.
— Что ж вы думаете делать?
Удивлённо взглянув на меня, она сказала:
— Учиться.
— Нашли себе место?
— Нет ещё.
И, снова улыбнувшись очень милой улыбкой, успокоила меня:
— Я скоро найду!
Вот и всё. В сущности — пустая история, верно?
Господин Иванов поднялся со стула, оглядываясь, как человек, который не уверен, что исполнил всё, что хотел, и соображает, что, собственно, он забыл? Потирал рукою жёлтый лоб, кусая губы, а глаза его всё бегали по комнате, не останавливаясь ни на чём.
— Я даже готов сказать, что история-то довольно пошленькая, так себе — маленький прыщик на душе, истощённой жизнью… Но этот прыщик — он, чёрт его возьми, подчёркивает печальное, неизлечимое, то есть неустранимое одиночество человечье в этом наилучшем из миров…
— Мой приятель? — удивлённо ответил он вопросом на вопрос. — Какой приятель? Ах да, адвокат! Он застрелился, — я разве не сказал вам? Да, он кончил. Очень пил, кутил и дебоширил, а потом, с похмелья, пристрелил себя. Конечно — записка: «Прошу никого не винить» и, конечно, это ложь — самоубийцы всегда обвиняют, не могут не обвинять, что бы они ни писали! Самоубийство — деяние, обвиняющее всех и вся в безразличном отношении к человеческой жизни.
Подумав, он сказал с невесёлой гримасой:
— Читал я рассказ про мальчика, который обо всём, что ему не нравилось, говорил: «Не надо!» Если бы это отрицание имело какую-нибудь действенную силу, я сказал бы — не надо фордыбачить, надо жить скромнее, тише, это разумнее, проще! Не надо шума, не надо красивых слов, они — пустые!
— Да, да, — засмеялся он, — это верно! Давно ли мы кричали друг другу — «взмахнёмте крыльями могучей, вперёд на бой со злою тучей враждебных сил», а ныне вот хочется пожить тихонько, без полётов, сложив крылья, даже отложив их — не надо! Осмотреться надо — вот это так!
— А впрочем — я не знаю, что именно надо делать, это я так себе… Господин Александров, Анюта и курсистка Мозырь — они знают! Но то, что они знают, знал и я в их годы…
— Знаете, какие записки должны были бы оставлять самоубийцы? «Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю» — вот, простая правда, и так красиво сказана!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: