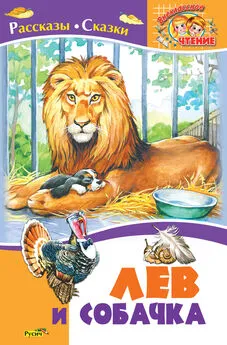Максим Горький - Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917
- Название:Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1949
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горький - Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 краткое содержание
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вот снова отец требует, чтобы сын прислал шестьдесят рублей оброка или возвращался в деревню. Агафонов мечется в ужасе, никто не может помочь ему. Наконец ему прислали «паспорт» — мужичок из родной деревни принёс длинный свёрток, а в нём пучок берёзовых розог и при этом письмо отца:
«Вот тебе паспорт». И угроза — если подателю не будет вручено немедленно шестидесяти пяти рублей, то отец вытребует сына к себе прежним законным порядком, и паспорт этот будет прописан на его спине.
Агафонов повесился. [21] Кущевский. «Неизданные рассказы», стр.179–185 — Ред.
Кончив читать, Н.Е. отбросил книгу, крепко вытер пальцами усталые глаза и молча лёг.
Я спросил — правда это или выдумано?
— Правда, — сухо сказал он. — Мне рассказывал эту историю стихотворец Кроль, участник её, один из тех, кто не мог помочь Агафонову. Все они были приблизительно в одинаковых условиях с Агафоновым, настоящая фамилия этого несчастного — не Агафонов, а не помню как. В Петербурге я читал его рассказы — это вроде Николая Успенского, но — лучше, вдумчивее и мягче. Его фамилию я помнил ещё вчера, да вот эта головная боль — от неё и свою фамилию забудешь…
— Не уйти ли мне? — предложил я.
— Ну, вот ещё! — воскликнул он, вставая на ноги. — Помилосердствуйте, я уже четвёртый день, кроме мух, ничего живого не вижу…
— Все они — Кущевский, Воронов, Левитов и множество других — были горчайшими пьяницами, об этом вспоминают часто, а причина — почему они пили так — насмерть — причина этой драмы никого не занимает. Ведь не все же они родились алкоголиками, многие, вероятно, пили потому, что лучше этого занятия — не было у них. Может быть, современный уход в колонии и другие хаты с краю по существу-то немного лучше ихнего пьянства; может, даже — если взять самую глубину явления — кабак-то ближе колонии к людям? Я не утверждаю, а — догадываюсь. Надо помнить, что один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «Я умираю оттого, что был я честен». Это — чугунные слова! И нигде, кроме России, эдак не сказано. В этом — всей нации, всему обществу упрёк брошен, упрёк заслуженный. Но, если умирали оттого, что были честны, ведь и пить могли оттого же? Имею ли я право отдохнуть от безобразия в кабаке, так как другого места для меня, для истерзанной души моей, — не уготовано? Общество категорически отвечает: «Не имеешь ты этого права!» Само оно однако всегда напоминает поведением своим псалом «вскую шаташася языцы» и — глухо к таким признаниям, как вот: «умираю, потому что был я честен». Это до него не доходит!
Рассказывал анекдоты о глупостях цензуры, смеялся беззлобно, потом долго молчал, усталый, и, вздохнув, сказал:
— Вообще говоря, юноша, быть писателем на святой Руси — должность трудненькая. Вот когда-нибудь родится умный человек, посмотрит, подумает и, может быть, напишет историю русского писателя-разночинца. Это очень поучительная история будет и весьма полезная для общества. Надо же понять, наконец, до какой степени у нас невозможно — возможное. Каламбур — по-русски: возможное — невозможно.
Он едва сидел на стуле, глаза его были мутны, и голова тяжко опускалась на грудь. И когда я сказал ему, что напрасно он перемогается, лучше бы лёг, он, видимо, сильно болен, Н.Е., усмехнувшись, ответил:
— Я лет десять болен.
Однажды я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстовец, собралась публика послушать его, пришёл и Каронин с женою.
Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжёлых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате вразвалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей, как человек, обладающий универсальной истиной, — снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:
«Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и, если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!»
Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но однако в нужных случаях употреблял носовой платок. Говорил «по-нашему, попросту, по-деревенски», смачно подчёркивая настоящие слова — «брюхо», «негоже», «стал-быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужичка с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастиях жизни они сами виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истин, суровый нагоняй пророка её был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастию оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии — человек рябой, лохматый и ненавидевший рационализм, что не мешало ему третий год учиться на медицинском факультете казанского университета. Он стал возражать толстовцу, и через полчаса они начали яростно швырять друг в друга цитатами из евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л.Н. Толстого; студент читал их и доказывал толстовцу, что он не понял своего учителя, а опростившийся человек сердился, уже употребляя не всем понятные слова, вроде «предиката», «антиномии»; студент уличал его в неправильном толковании философских терминов — вихрем взвеялась крикливая скука, и все слушатели поблекли.
Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетённо покорных людей, в кругу которых неутомимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я всё ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-чуть, выступит вперёд и убеждающим голосом скажет: «Довольно!»
— Это квиетизм! — кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма».
Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомлённых спором; кто-то из них спросил:
— Что — всё ещё скучно?
— Как в семинарии на уроке гомилетики, — ответил Каронин.
Его спросили, как ему нравится проповедник? Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и неохотно:
— Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По-моему, это значит, что у него — одновременно — и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа.
Минут через пять он ушёл, не простясь с хозяином квартиры, а я и ещё кто-то пошли провожать его.
Он шагал медленно, спрятав руку под бороду и тихонько говорил:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: